Book by Leonid Sabaneev
Extremely peculiar breed of dogs, undoubtedly bred by Russian hunters, as one of the most beautiful dogs, had no equal in speed at short distances.
All this obliges us to trace in detail the history of hunting with greyhounds in Russia and the origin of dog greyhounds.
Unfortunately, information about hunting and dogs in the Slavs in ancient times is very scarce. It is understandable, if we take into account that the chroniclers were monks, in general spiritual persons, always very hostile to hunting and considered the dog unclean – a dog snoodo. In this respect, the Catholic clergy differed sharply from the Greek-Russian, as before the Reformation, even before the 18th century, most of the bishops and higher clergy were hunters. We know that even now the best hunting dog factories – setters and pointers – belong to Anglican priests.
Despite, however, the paucity of information about hunting and dogs of the Pretatar period, it can be proved that Russian greyhounds – breeds of relatively modern origin and in no case purebred of all Habsburgs and Hohenzollerns, as claimed by the authority of dog hunters P. M. M. M. Machevarianov, and even more so were not created by such, did not exist for the first time, according to some non-modern.
The fact that the Slavs in ancient times did not have and could not be greyhounds in the present sense of the word, that is, such fast dogs, which could within a few minutes, even seconds catch up in the clean place of any beast for the simple reason that they are faster. The greyhound catches, not screws. The very area occupied by the Slavs was then covered with dense forests and could not be conducive to hunting with such dogs. Nowhere is there any description of such bullying and the adjective “greyhound” is used, at least until the 15th century, only to refer to the speed of horses. It is known that in ancient Russia hunting – catching – was carried out with the help of shadows and dogs, boiling squirrels, looking for beavers, chasing and detaining deer, bison and tour; but these were obviously the same wit dogs that still occur in almost all of Russia and the Caucasus as fishing, yard and shepherd. This is proved by hunting frescoes adorning the staircase to the chorale of Sofia Cathedral in Kiev, built by Yaroslav Wise in memory of the reflection of the Pechenegs8, although the creator of “Russian Truth” preferred to “sit on the shore
In “Russian Truth” appointed quite a large penalty for the stolen dog: along with a falcon and a hawk. “And who steals the dog, any river with a rod.” The frescoes, among other scenes, depict a squirrel hunt with a husky, horse hunting for a bear and a fierce beast (barca), a sharp dog chasing a deer, and a falcon hunt for a hare. In the will of Vladimir Monomakh26 does not mention dogs, and actually hunting – fishing, catching – in those days had, unlike fishing, a kind of martial arts of heroes with large and dangerous wild animals with little help from dogs. The princes of Kiev and Novgorod could then have only catching dogs, which differed not so much fast, as strength and spite. Greyhounds princes and their vigilantes were quite replaced by much faster catching birds – falcon, hawk and golden eagle, who took a hare, fox, wolf, saiga and, moreover, feathered game. This method of hunting, often mentioned in the annals, apparently originates from India, where all the Slavs came from; in India, however, there are no greyhounds, and dog hunting there is not known, even between mohammedans.
We can only assume that the princes of Kiev could have dogs from the Balkan Peninsula – it is those brutal semi-borz-semi-racer, which are still preserved in the Balkan mountains, representing a cross between North African greyhounds with a bearded sheepdog. This assumption is all the more likely that similar brutal dogs, as we have seen, were brought from the front of Asia to the Baltic coast by one of the Germanic tribes in the era of the great migration of peoples. But these were still not greyhounds, but stalwart, strong and relatively very fast picks, much less similar to greyhounds than modern Scottish dirhounds. In general, it is difficult to say positively whether these dogs were brought to the Baltic coast through the Caucasus from Asia Minor already in the form of a cross between an Arab greyhound with a sheepdog, or whether this breed was formed on the spot by crossing the native Armenian sheep with the chorty greyhounds of the Celts and the Belgs. The last guess is more likely.
Above, it was noticed that the greyhound in the solid forests occupied by the Slavs before the Tatar invasion, was completely inappropriate and useless. But it was not in ancient times and in all South and South-Eastern Russia, which had a steppe character, but not yet devoid of forests. Herodotus, describing the life of the peoples who lived in the south-east of Europe for 500 years before the river, says that they are all engaged in hunting, which is made as follows: a hunter, looking from the top of a tree of any beast, pus-
hawk, any falcon, three hryvnias of sale, and the gentleman hryvnia.” Obviously, here we are talking about hunting dogs belonging to vigilantes, i.e. the mentioned fishing dogs, used for hunting large animals, which could not be poisoned by falcons and hawks.
throws a dart at him, and then, jumping on his horse, pursues the wounded with the help of dogs. Obviously, they weren’t greyhounds, they were catching dogs. The most method of baiting a hare, a fox, a wolf or other animals could not fail to draw the attention of our ancestors. All the ancient inhabitants of Southern Russia of the Pretatar period, from the Scythians, Sarmatians and to the ruffs and Pechenega, belonged to the Turkish-Tatar tribes, natives of Central Asia – Altai and Mongolia. But since modern Altai Tatars and Mongols do not have greyhounds, there is no reason to think that they were in their relatives who penetrated Eastern Europe before the magometanism spread in West Asia. Since the ancient Assyrians had a real hunt with greyhounds was unknown and on their numerous monuments we meet as beastly hunting dogs images of huge dogs, less often – witty dogs like our northern, we have a good reason to say in the affirmative that in Asia Minor, Persia and the Caspian steppes greyhounds were brought by the Arabs who conquered the 7th century. Here the Arab greyhounds mingled with native fold-eared and long-haired mountain dogs and formed a new independent breed of so-called eastern greyhounds, characterized by a short dog on the body with shaggy hanging ears and tail, exposing their mixed origin.
When the Mongols in the 13th century flooded Persia and the Baghdad caliphate and took Baghdad, they certainly could not help but appreciate the hunting merits and speed of the dogs unknown to them, already enjoyed great honor in the Mohammedan world. These greyhounds were especially suitable for hunting in the steppes, where they extracted them a lot of animals – hares, saiga and antelope, quite in harmony with the rounded, mass hunting method inherent in the Mongol-Tatar tribes, when the hunt involved a whole army, which surrounded a huge space. Marco Polo describes such hunting during his time at Kublya-haka in Mongolia, where, however, the role of greyhounds was performed by cheetahs and even trained tigers. Mongolian hordes during their invasion of South-Eastern Europe, by necessity, had to be fed hunting, as the herds that followed them and were taken from the floorboards and other nomadic peoples were not enough to feed the hordes. As far as Russia was in those distant times rich in snow-free animals, it is evident from the fact that three hundred years later the army of John the Terrible, which went to Kazan, was fed mainly by the harvested animals, poultry and fish.
But in addition to the Low-Asian greyhounds Tatars, undoubtedly, brought with them a lot of their Mongolian-Tatar dogs, sharply different from native dogs as light shorthair, and heavier and longer-haired – wolf-like type. These Tatar dogs, which will be mentioned in their place, more native had the right to the name of hounds. When the Tatars settled down, occupying South-Eastern Russia, and accepted the mohammedanism, they, like all followers of Islam, paid special attention to the greyhounds and hunting with them. And since in the wooded areas of baiting they were very difficult, gradually developed a special, Tatar, mixed way of hunting, which had an analogy with the way of screwing the animals one half of the horde on the other. The role of the beaters was performed here by Tatar hounds, who drove out of the forest to the edge of the animals directly into the teeth of the greyhounds, who were held on the svors by riders – Khans and Uzbeks. This method of hunting seems to have survived to the present day in the Prialtai Kyrgyz, to whom he passed from the Russian Tatars.
Since the 15th century chroniclers no longer talk about fishing, fishing, and about psars, dog hunting, hunting with dogs. For the first time the word “psar” is mentioned in the spiritual testament of Prince Vladimir Andreevich (1410). Tatar rule could not be left without influence on the change in the nature of the indigenous Russian hunts – the sage with dogs of large animals in the forest and baiting birds of small animals and birds in the meadows, fields and swamps – baiting, in turn borrowed by the Tatars. We know that the Russians, by their re-enaction, have adopted many mores and customs, from clothing to terems, and there is no doubt that the dog hunt for the Tatar specimen existed even before Basil III (Father John the Terrible), who, as is known to be istrriches-ki, was a passionate lover of greyhound baiting and even fell ill fatally in the field at Volokolamsky (1533).
Gerberstein in his notes about Moscow gives a rather detailed description of the grand witch hunt with greyhounds. From this description it is clear that in general terms the hunt was carried out in the same way as now. The beast, mainly hare, was driven out of the forest with the help of a very large number of large canes molossus et odo-riferos,i.e. muzzles and spirits, or hounds dogs, and talk about loud and diverse barking. The baiting of the expelled hares was carried out by the so-called. kurtzi “with fluffy tails and ears”, “incapable of a long race” who were lowered from the side of the horse. Obviously, these were the eastern Fold greyhounds, who had long hair only on the ears and the rule, and it was the jackets, i.e. Kurdish greyhounds – the name retained by Asian greyhounds until recently.
From this we can conclude that the greyhounds brought by the Tatars to Russia, if they have changed, very little and still have preserved hanging ears and a short dog on the body, which, perhaps, a little rough and lengthened due to the influence of the climate. As Mohammedans and imitators of the Arabs, the Tatar Khans and Uzbeks had to have about their greyhounds, considered a symbol of nobility and wealth, the same care that African bedoucils and Central Asian pelvises of Turkmen, and, believe-but, carefully blue them in purity, without mixing with other dogs, considered to be impure. The presence of the Tatar prince (Shih-Alei) and the Tatars on the hunt described by Gerberstein may be an indication that it has not yet been sufficiently assimilated by the Russians and required leaders. How much the greyhounds were valued then, it is clear from the fact that at the conclusion of the trade agreement with the Danish King Christian II in 1517 he was sent as a gift greyhounds, which Christians, in turn, sent to the French King Francis I.
The dog hunting got full citizenship in the Moscow state a little later, it was in the time of John the Terrible, after the capture of Kazan, when the wise government immediately consolidated its power, resettling a significant part of Tatar princes and Uzbeks (nobles), the most troubled element, dissatisfied with the new order, in the present Yaroslavl and Kostroma province, and endowed them with estates and forcing to be baptized. From that moment the confluence of Tatar and Russian serving class, soon reborn, Tatar greyhounds and hounds spread throughout the Moscow state and under the name of Slovenian dogs penetrate even to the west, in Poland. In the old Polish hunting books (?) it is said that for baiting wolves it is necessary to use Slovenian dogs, which differ in height and strength.
It must be assumed that in the second half of the 16th century the withdrawal of a new – Russian – breed of greyhounds begins. This is proved, firstly, by the inconsistency of the Tatar greyhound climate and the conditions of island (i.e. expectant, not active) hunting; secondly, because Christians had no reason to treat their dogs so pedantically; finally, the greyhounds dissipated everywhere, and it was difficult to keep the breed clean, especially since the relations of the Kazan Tatars with the Astrakhan, Nogai27 and Crimean had to be very difficult. Tatar greyhounds could belong only to the Tatars of the upper class, were never numerous and were preserved from degeneration only by fresh blood of southern greyhounds.
Thus, there was a conscious, partly forced interbreeding with native hunting dogs, which were the wit of a wolf-type dog. By the end of the 16th century, yaroslavl and Kostroma Tatar nobles developed a new breed of greyhounds, distinguished by a long dog on the whole body with undercoat, combs and a mane around the neck and large standing or full ears. All these sharp breeding signs were transmitted by the northern wolf-like dog, in turn, from repeated submix of wolf blood naturally and artificially to a pure-mouthed half-wild dog, which differed from the wolf by the lighter body structure and long standing and narrow ears. This form of ears, which was noticed in a variety of Russian greyhounds, known as sharps, until the fifties of the 19th century and according to the laws of reversal, which is common as a rare exception to the present, proves that the dog greyhound could not have formed from the interbreeding of the Tatar greyhound with a short-eared wolf. Over time, most of the dog greyhounds, like any cultural breed that does not need to constantly strain their hearing and ear muscles, the end of the ears began to bend backwards, and then the ears began to hold in the book, pressed to the back of the head, alarming, ie slightly raised only in minutes of excitement. Thus, the long, swarti and fluffy ears of the kurtzi at Gerberstein turned into a standing, half-standing and pressed ear of a Russian greyhound; Tatar greyhound, as a mixed breed, was weaker than the northern purebred and thoroughbred fishing dog and only gave it greater lightness, slenderness and beauty.
There is no doubt that for interbreeding with the Tatar greyhound selected the largest and lightest wit northern dogs, which in many cases in many cases replaced greyhounds, i.e. were catching dogs that could stick the beast, especially in forests and rough terrain. Such greyhound dogs are still found in many parts of Northern Russia and Siberia; these include the Syryan, Vogul, Bashkir and Tunguska huskies.28 According to P. E. Yashero-va, in the village of Sogostyre, at the mouths of Lena, there is a variety of stalwart northern dogs, in a warehouse very similar to greyhounds, with such a narrow skull that their ears, being pressed, cross ends, as in the former of our dogs. The slight addition of them is caused by a similar greyhound’s appointment to catch deer in winter in the tundra on the nast. Between these light varieties of barks, distinguished by long narrow ears, there are specimens of very large growth, up to 17 verks, for example, between Bashkir and Vogul, and there is no reason to think that between the indigenous dogs of Middle and Northern Russia, in general in the Moscow state and even the Grandhity there were no such dogs, especially since the sygoliki are still being carried out in Vologda. This breed or variety differs from the Karelian husky of Olonetsha and Novgorod provinces with a longer ear and a lighter addition. Prince A. A. Shirinsky-Shikhma-totov, a researcher of northern dog breeds, says that the movements of the zyryan husky can be compared with the jump and throw of a dog, while the karelian race resembles the running of heavy hounds. We know that in the time of Tsar Alexei Mikhailovich, the so-called horse dogs were especially appreciated. In 1665, Boyarin Blagovo hit the king with a brow of 2 hunters and 10 lohs dogs, for which he received a valuable royal gift – 100 p. of money. These catching dogs were carried out in Russia in the early 19th century, as Levshin is mentioned in his books. This was certainly not the name of hounds, but the wit of big-growth huskies, accustomed to the snouting moose.
In any case, the Tatar greyhound interbred with native dogs, and it is very strange to assume that the Russian dog comes from Siberian or Mongolian dogs, based on the fact that these dogs can catch the beast and seem to have a very bad flair and extremely sharp vision. Siberian wit of dogs have nothing to do with it for the simple reason that the Mongol-Tatar tribes could not bring them in large numbers, because they were exclusively forest and tundra dogs. The Mongols could be accompanied mainly by Mongolian dogs, if only because they still feed on the corpses of people and animals, which could not be lacking in invasion. But Mongolian dogs have nothing to do with greyhounds at all, much less pso
Kutepov
It is not clear how the zoologist Gondatti, followed by Baron Rosen in his “Essay of the History of the Greyhound” can claim that in the entire space of Siberia there is one breed of barks with poorly developed flair, almost barking, with curved tips of ears and big eyes skill. The very names of these dogs – wind, animal fishing dogs, huskies – prove their sensitivity and their inherent ability to bark to indicate the location of the beast. All this is now known to every hunter. Gondatti was obviously referring to the sled dogs he had seen. Northern dogs are divided into many breeds and varieties, and between them really some have a relatively weak flair, which in the tundra, as in the steppe, does not matter as much as in the forest and rough terrain. In the tundra the dog can see further than to smell, and in all the strones, and not in the wind.
howle, because they have hanging small ears, relatively short hair, colored more black in the understulops and, as we shall see further, approach the hound type.
The northern dog of the light warehouse gave strongly everything that distinguishes Russian canines from other greyhounds: a long dog, forming a comb and mane, a suit – gray, gray-peg and white, the shape of ears, a straight staging of the hind legs (under itself), finally, a tail, which, as you know, many huskies do not bend the ring on the back, and hold the wolf. Even the throw, i.e. the extreme tension of forces in overtaking the beast, is a quality transmitted by the Husky and only received from the dog’s extreme development. Laika also makes a series of fast-following one-after-another jumps at the sight of the beast and also throws a pursuit when he is convinced of the futility of his efforts, which she never does, at least in the steppe, an eastern greyhound, characterized by the traction and persistence of the chase.
The best proof of the validity of the theory of the origin of Russian dogs from the mixture of Tatar greyhounds with the Central Russian husky is the fact that in the North Caucasus, the Highlanders of The Adygea and the Cuban Cossacks greyhounds have standing ears with curved tips, often gray color and a longer dog on the neck, like a mane. Apparently, these greyhounds descended from a cross between a fold-and-a-half-horse greyhound with a Caucasian wolf-like dog, a mongrel and a herding dog belonging to the bark type. There is reason to think that this mixing happened relatively recently, not more than 40-50 years ago, as in the 70s the greyhounds of the North Caucasus, at least in the Tersk region, almost did not differ from the Crimean.
N. P. Kisensky in his remarkable work “Experience of the genealogy of dogs” which has nothing equal not only in Russian, but also in all foreign literature and laid the groundwork for the decision on the origin of different breeds of dogs, the first pointed out that the Russian greyhound is the result of crossing the northern wolf-like dog with the eastern greyhound. The latter gave only the lightness of the warehouse, lengthened the muzzle, but most of the signs inherited the dog from the husky. Standing ear, which later began to be laid back – in a puff that is noticed in many barks, ribs below the elbows, back with a top (inclination) and the length of the dog are transferred to her husky; the silkiness of the dog is a consequence of care (and, let’s add on our part, depends
Grey with a black stripe on the ridge, with a short (comparatively) dog, except for the chest, neck and tail.
For example, Karagos, brought by Egornov in 1876 and formerly on display.
also from the later impurity of the soft-haired greyhound); in poor upbringing and poor cultivation, it becomes rigid and coarse (sandy). The elongated dog on the neck, tanks and combs, especially the clutch, are peculiar only to the northern type. The grey wolf suit is characteristic of barks; sexual is a modification of the wolf’s suit in the other direction – it is, in fact, light red, and red wolves, as well as huskies, are often, but between them there is never red. Laiki and wolves, like most of the canines, belong to the light-faced, and they are uncharacteristic, and if there are, the light and often separated. In general, Kishensky quite thoroughly considers the distribution of the dog and the suit so important and stable breeding grounds that it is possible to decide on the basis of their decision about the origin of the dog. Finally, the dog greyhound has “the same wolfish manner of waiting for prey at close range, aiming lying down and catching one short desperate effort; the latter, which has been the subject of selection for generations, has evolved into a fabulous shot-like shotgun.”
Be that as it may, almost 50 years after the capture of Kazan and began mixing the winners with the defeated and native dog with the present, Tsar Boris already sends two greyhounds to the Persian Shah Abbas, of course, a new Russian breed, as the Tatar greyhounds were little different from the Persians, did not represent anything interesting for the Persians and their parcel had no sense. In addition, probably refers to the mention of ancient Polish authors about the dogs of Slovenian, with the merits of which Poles had the opportunity to see in the times of interregnum and impostors. It is known historically that the first impostor was a passionate lover of dog hunting and bear baiting, and that he and the Surrounding Polish Pans brought with them a considerable number of Polish harts. The latter, having their own merits, could even have some, though insignificant, influence on the statues of canines, perhaps a little ennobled their overall appearance, improved ears and rules. However, even Tsar Fedor Ioannovich English merchants brought greyhounds, cops and bulldogs.
It is hard to expect that in troubled times of the late 16th and early 17th centuries dog hunting flourished in the Moscow state. In the suburbs, obviously, there were no good dogs, if Tsar Mikhail Theodorovich had to send for them in the northern
Red fox-shaped huskies are found in Finland and make up a separate breed.
bearish side. In 1619, he sends to Galic, Chukhlomu, Soligalic, Sudai, Kologrov and Unju two hunters and three horse-drawn dogs with the order to take in those places from all sorts of people dogs greyhounds, hounds, medelian and bears. The letter even ordered the mayors to give the archers, guns and sendmen to help against those boyars, nobles and other locals who would not want to voluntarily part with their favorite dogs and bears. Hence the direct conclusion that the present Kostroma province was indeed the birthplace of dog greyhounds and Russian hounds and in it in the 17th century met the best, most typical representatives.
It must be assumed that it is from the era of the romanov house that the ordering of dog hunting begins and bringing it into a coherent system and Russian greyhounds are finally isolated in a separate, independent breed. In 1635, there was a “Regul, belonging to the dog hunt”, composed by the so-called Riga German Christian Olgerdovich von Lesssin in German. From this “Regula” we can see that in the dog hunt of the tugdash time a certain terminology has been developed, in which there were already very few Tatar words; that the Tatar remained only hunting clothes, saddles and signals, which began not from a high tone, as in the west, but from a low; that, at last, the Tatar fold greyhounds, if not transferred at all, then become very rare. Von Lessin describes only one breed of dog greyhounds, which have “dogs and foxes like vortices, a dog long hanging, no matter what wool, like a tow,” i.e. straight, not wavy. Thus, already at the beginning of the 17th century, the Russian greyhound was sharply distinguished by the length and softness of the dog and could not have almost the same short coat as the Crimean, only with undercoat, i.e. the one described by Mr. Gubin under the name of purepsova, considered by him for the oldest breed of Russian greyhounds.
Tsar Alexei Mihajlovic, as can be seen from historical documents, mainly from his letters, hunted almost exclusively with birds and, if he poisoned the wolves and hares with greyhounds, it is very rare. This did not prevent him from appreciating the greyhounds and, together with the Falcons, sending them to the Persian Shah, probably to western European states. By this time, falconry is at its highest development, but at the same time it is the property of a few individuals; baiting with greyhounds, apparently, begins to replace bullying
Kutepov.
This (handwritten) regul was found recently in the archives of the Counts of Panin.
catching birds, and the boyar of the times of the kings from the house of the Romanovs, apparently, amused mainly by dog hunting, less often hunting with a hawk. Probably, then there was a well-known saying: falconry – royal, dog – bar, shotgun – Psarskaya, as well as a saying-mystery (runs a penny, for a penny ruble, for a ruble one hundred rubles, and a hundred rubles and no price). Firearms began to be used for hunting animals (large) from the time of John the Terrible, but, apparently, until Peter III, when the shooting of the flight, which became known in the time of Alexei Mikhailovich, Russian nobles considered shameful hunting with a gun and continued to take even bears and elk from under dogs knives and horns, feathered wild, and it was very difficult to catch.
Peter the Great was not a hunter at all: during his boiling activity he had no time to have fun hunting. But his grandson Peter II was a passionate dog hunter, and probably the study of the archives of imperial hunting in particular will shed a lot of light on dog hunting at the beginning of the last century. Undoubtedly, together with the founding of St. Petersburg and constant relations with the Baltic knighthood began the interaction of the Russian greyhound and the Baltic Brudath. This influence was particularly affected in the reign of Anna Ioannovna, during the time of Byron and the influence of the Liandians, who received extensive estates in Central Russia. Russian hunters had to be amazed by the growth, strength and malice of the Kurland brucers, and the Kurland barons and the new Russian German landlords, in turn, were captivated by the fast and beautiful of Russian dogs. It is very high in the early 18th century that the Baltic Greyhounds already had a significant mixture of Irish wolfhounds, which were obliged by their outstanding qualities. In the letters of F. Naumov and Artemy Volynsky to Count S. A. Saltykov, dating back to 1734, repeatedly mention the black and chubaro-pegy brudaths who “jumped not famously.” Similarly, from these letters it can be concluded that Russian hunters strenuously interbred different breeds of greyhounds – English, Polish brudath – between themselves and with dogs.
Although there is no description, no drawings of Kurland bruda greyhounds, or clokes of the past century, but it is safe to say that they belonged, like local bars and bruda hounds, not to bristly-haired mountain type, but to soft-haired, curly, that is, plain type, which includes a sheepdog and poodle. It is very likely that in the ancient Ostsei castles there will be portraits of barons with brutal greyhounds, paintings depicting bullying by them, and in the family archives – correspondence, casting light on this now-disappeared breed. Undoubtedly one thing, the Kurland clumps were sharply different from the Scottish and other greyhounds; when they began to grow out, the Ostzei Germans began to interfere with them, on the one hand, with the Russian dogs, and on the other – with the Irish wolfhounds and, probably, with the Scottish dirhounds.
These crossings gave, as you would expect, different results: in the first case, the dog greyhound lengthened the dog’s clos, made it softer, properly wavy, even curled. Other cross-breeding dogs with unbreeded dogs, and there is no doubt about the strange and not yet explained fact that such mixes very often unusually lengthened the dog! This was how the Irish water spaniels, also the German cord-poodles, were formed. During the repeated interbreeding of the received cross-crosses with the dog disappeared mustache, eyebrows and beard. Dogs have become smooth-footed, smooth-legged, smooth-tailed, with curly dog, like a sheep, at first glance strikingly similar to the Irish water spaniel, only huge, sharp-hearted and greyhound-like. You would think that the Kurland dogs descended from the cross-kneading of the Curland clogs with the harts of adjacent Poland. But this opinion is contradicted by the low-prevalence, elongated dog on the neck and especially the extraordinary rod, connected with the throw, inherited from the dog; malice, strength and growth are transferred to them, of course, by shreds and increased by selection. It is very possible,4 that in the withdrawal of this breed the main role belonged not to the Ostzei barons, but to Russian dog hunters, more interested in greyhounds and hunting with them than the Germans, whose character it did not correspond at all. Hardly in the Baltic region there was ever a real dog hunt for the Russian-Tatar specimen, and probably the barons used greyhounds mainly for baiting wolves. We only know that Russian hunters of the last century have repeatedly crossed dogs with brudast – both Irish and Kurland. The famous Beast of Prince G. F. Baryatinsky, who took alone the mother wolf (see. The Greyhounds), came from Reed-Kapa, an Irish wolfhound discharged from England by the Kurdish landowner Blum, and a dog.
Thus, around the 50s of the last century a new breed of canine greyhounds was formed with many signs of brudath, only bare-footed. But since these Kurland dogs had a very clumsy appearance and too sharply stood out between Russian dog beauties, it is quite natural that Russian hunters could not be satisfied with the appearance of Kurland dogs and, in turn, began to strenuously mix them with thoroughbred Russian dogs. The result was the final disappearance of the brudath type, both in the dog and in the warehouse, but the dog has improved – it has become longer, thinner and thicker. A new species was formed, which, unlike the indigenous breed, began to be called a dense-pop. From here it is clear comparison of Gubin a dog greyhound, as he calls actually a dense-pop, with eagle trotters, and his opinion that this breed was bred recently, so that in the early eight hundred years it was considered a great rarity and was valued very dear according to Gubin, landowner of Shatsky county P. E. Mosolov, having real dogs (fat), sold them in Poland. From the further description it is clear that Gubin considers the dog product of mixing pureps greyhound, considered by him the ancient Russian breed, with the Kurland dog on the grounds that between the canine (thick-) expressed often holosherish in the type of pureps. “Regu-lom” von Lessin clearly proves that in the 17th century there was only one, or dominated, breed of greyhounds with a long dog “like a tow,” and therefore, Gubin’s opinion, however, and not supported, does not stand up to any criticism.
Despite the fact that Elizaveta Petrovna, while still a princess, was distinguished by an extraordinary love for dog hunting, we could not find a single printed information about how and with which greyhounds she hunted in the suburban village of Izmaylov and other places. But even in the even longer reign of Catherine the Great did not come out any hunting books, from which it would be possible to compose a concept about the then dog hunts and breeds of greyhounds. Only a handwritten book, probably a copy, “The Guide to Gun Hunting” by the rangersman Peter III Bastian, which says nothing about greyhounds, has been preserved; 1778 (?) and 1785. G.B. “The Dog Hunter” was published, a translation of some, probably handwritten, Polish book, which included a description of a chort greyhound. In the 2nd edition of “The Perfect Ranger” (17) the description of the greyhound and the dog ‘hunting is a literal reprint of the “Dog Hunter”, so that almost the only printed information about the Russian dog hunt and Russian greyhounds of the time of Catherine we find in “Notes of Bolotov” (1791), only a few lines, and in
It is more than likely that the gusto greyhound was bred by Count A. G. Orlov.
Dubrovin’s essays about Pugachevshchina, which mentions the greyhounds of the Siberian landowner Ermolov (grandfather of our contemporary N. P. Ermolov), sent to him by Count Panin, the subterfuze of the Pugachev revolt. However, in the 60s, it seems that a guide to dog hunting under the name “On the order of dog hunting of greyhounds and hounds” was drawn up for Count A. G. Orlov. This book, written under titles, was presented to the famous dog hunter Of the Siberian lips. N.M. Naumov, from whom she passed to P.M. Machevarianov. As for the book “The Dog Hunter” of 1728 (?) of the year, which Gubin mentions several times in his manual, it would be thought that this is the same “Dog Hunter” by G. B. mentioned above; but since Mr. Gubin goes on to say that he writes out from this old book the frets of Kurland greyhounds, which G.B. does not mention at all, it must be concluded that he has some of the hunters and bibliographers not known book about dog hunting. In all likelihood, it is handwritten and written later than 1728.
For the first time, we meet the division of Russian greyhounds into breeds only in Levshin’s “The Book for Hunters” and in his “Universal and Full Economics” dating back to the beginning of this century. The Book for Hunters (p. 24) states that “dog dogs are divided into common canines and dense dogs. To the latter, first of all, the dogs, actually called Russian, having a long coat in curls, a very thick and long dog on the rule.” And then: “The dogs have a very thick, long and clumpy coat. The Sikhs are also divided into bearded ordinarys and clogs. Clokes have all over the body, even on the head and legs, the wool is thick, stiff, sometimes curly. The best of them (?) Kurland; the heads, ears, legs to elbows and tail are as if shaved; The other body is covered with thick wool…”
Almost the same thing is repeated in “Universal and Full Economics.” “1) Russian dogs are thick-stalwarts, have thick hair in curls, i.e. long braids, waves hanging; tail, or, in a hunting, usually, with thick, pigtails the same with a hair-like fringe. 2) The dogs have a rather thick coat, but without curls. 3) Boring (?),
It is the phrase: “not narrow and not round, would be wide on top”; rule “in a pure sickle and in itself would be free.”
It can be assumed, however, that it was composed for the leadership of the young Emperor Peter II (1727-1730).
Inako Kurland called, have a thick, stiff and curly coat. The native Kurland dog should have a head, ears and legs on the knee with low smooth hair, as if shaved, the mill and other parts are covered with thick hair, except the tail, which should be naked and sick, i.e. in the ring bent …” As you can see, kurland dogs here are incorrectly classified as brutal, as they are holodards. In both books, “Polish! English and Crimean” and not a word is mentioned about pure-pop. How could this breed of canines occur and where could the opinion that it is an ancient, indigenous breed of Russian greyhounds, proving its blood by the fact that it never “express surprises like dogs”, and the very name “pure dog” in the sense of lack of any sub-mix and “purity” of the dog by sight? Although Mr. Gubin refers to the unknown book “The Dog Hunter”, in which there are as if the name and description of pureps, but all the old hunters, of which many began a hunting career at the beginning of this century, never considered pure-russian native Russian breed, and the later product of a mixture of dogs with chorty and oriental greyhounds, most of them – not even the unidentified breed. We cannot, of course, certainly deny the possibility of existence in any area of Central Russia with a long time offspring of greyhounds with a very short dog, but with a undercoat like the aforementioned Cuban greyhounds. Such a breed could have been formed from the mixing of the eastern greyhound with some short-haired husky, like the last greyhound, but it is likely that it could have come from the harts given by the Poles in the late 16th and early 17th centuries along with the impostor. The influence of the Polish Harts continued in the 18th century, and from the letters of Volynsky and Saltykov we see that Russian dog hunters admired the growth of the chorus of the Lithuanian Count of Savishi and intended to knit it with the Polish same or bruce bitch. Artemis Volynsky also wrote that “one English nobleman brought him an English bitch; such a naive has not yet seen”, from the fact that in the reign of Anna Ioannovna were not particularly rare and English greyhounds. The beauty and purity of the forms of the latter, which had no sub-mixes of the bulldog, were seductive for the Russian dog hunters, and it is not surprising that they at every opportunity mixed Polish and English chorths to their dogs.
In any case, such cross-sorts in the last century could not be particularly frequent and systematic and met only at the big bar, who had intercourse, had acquaintance with Polish tycoons and members of the English embassy, as Volynsky,
Saltykov, Panin and Orlov. Chistops could stand out in an independent race only at the beginning of this century, at the end of the Napoleonic wars. If even now, when the number of dog hunters has decreased at least ten times against the former, in our memory at the end of the Sevastopol campaign of the last Turkish war, even the Akhal-Teke expedition29, were brought to Russia by the military of dozens, hundreds of Crimeans, Turkish greyhounds and Turkmen basins, at the beginning of this century Russian officers could not be ashamed of this kind of live contraception and without the desire to please all the best. It is known for sure that all our native cops come from French, partly German legaches, given in huge numbers from France and Germany. And since most hunter-officers were then dog hunters, not gun hunters, it follows that at the end of the Napoleonic wars a lot of people got to Russia and greyhounds, mainly Polish choristers, part of the English or close to them, then did not make up a great rarity in the whole of Western Europe, especially in Poland and used mainly for baiting hares.
Thus, in the twenties of this century in Russia there were four independent breeds of dog greyhounds: Russian dog, kurland, gustops and pureps, and each of them had sharp, more or less visual differences even for the uninitiated. In these times, almost every wealthy landowner, suburban provinces in particular, charged himself with a moral duty to keep greyhounds and hounds, sometimes in large numbers – hundreds. Many of the owners of such large plants out of false narcissism did not allow to interfere with their dogs with strangers and led the breed in absolute purity, adhering to one of these types with some small differences of warehouse, growth and mainly color. As a result of such closed breed management in different areas formed numerous varieties – offspring of these types, which had very stable passed signs and called by the name of the owners. It is impossible, in fact, to allow the identity of the yaroslavl and Vladimir landowners of the hunters of the greyhounds. There were thick-ish curls, a kilo and with a straight dog, leached and with rather convex ribs, there were, at last, a lot of such family breeds, which could not be attributed to any particular type, as they were intermediate.
Although in the Turkish wars of the last century30 Russian dog hunters and exported from Crimea and Moldova a considerable number of fold-hounds, but they for a long time did not have and could not have a noticeable effect on the frets and jump of Russian dogs. The real steppe baiting and hunting of the race were then almost unknown, and there was only island riding and baiting from under the hounds, and required a rod and a throw, but not force in the sense of ability to long jump. Russian hunters, as now, were afraid to spoil, or rather, disfigure the canine cross of the steppe, mainly because the latter for a long time, i.e. for several generations, passed the hanging ears, completely not harmonizing the general species of the dog. Permanent
It’s Rice. 5. Mountain Greyhound (“Hunting Calendar”)
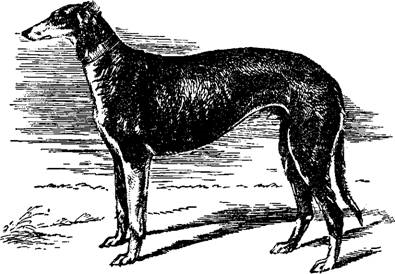
island riding in the forest provinces served to the extraordinary development of speed at short distances to the detriment of power. If we take into account the often stubborn conduct of the breed in itself, i.e. closed, despite the periodically devastated kennel plague, leading to forced incest and degeneration, it is not surprising that when the forests thinned in 20 – 30 years, the famous dense-pop were unsuitable for prolonged persecution in the Poles, especially in the steppes of Saratov, Voronezh and other black-earth provinces. More prudent southern hunters interfered with their dense-pop with pureps or with English and Polish chorta, which, of course, could not spoil the general appearance of the Russian greyhound, and its ears in particular. But the old-style English greyhound was not strong, itself was degeneration and could not improve the loose build-up of the dense.
At this critical moment, when most of the dog hunters began to grumble on the short-heartedness of the dense, on the stage came greyhounds, who were still almost unknown and combined force with a rod and steel legs, not broken in any stabbing and ice. They were mountain greyhounds of the Caucasian Tatars and Persian Kurds31, different from the steppe basins of the Turkmens.
The first slides were brought to Russia by Field Marshal Count I. V. Gudovich and his associates after the Arpaci case (in 1807), where the Persian seraskir Yusuf Pasha was broken. Some of these dogs were kutsy and were distinguished by the extraordinary development of the ass, which made them very dodgy on hijacking, despite the lack of a tail. But the glory of mountain greyhounds begins, in fact, with the famous Heart (Major General P.A. Ivashkin), originating from the dogs of I.A. Ko-lgrivov and derived from the crossing of the mountain with pureps. Over the course of 5 years (from 1818 to 1823)Heart was distinguished by phenomenal friskyness on the Moscow gardens, where he did not meet rivals. Heart did not catch, but, so to speak, beat the beast (hare), jumping b. hours forward. There was no example that he would not only miss a hare, but also kill him from the first hijacking. It was in the full sense of a dashing dog.
Extraordinary frolic of the Heart was the reason that all very rich and very passionate hunters began to get from the Caucasus mountain greyhounds and mix them with canines, with some adhered to the dog, others, who had the opportunity to deliver new producers – mountain type. In addition to Kologrivov, Ivashkin, the mountain greyhounds were from A. A. Stolypin, the Saratov provincial leader, E. N. Timashev, A.P. Krav-kov, and especially General A.V. Jiharev, who led them until his death in almost pure form. Cherkes’ blood, wiped out
See. “Y. connose. and hunting,” 1842,No. Here for the first time the term purepsy is used in print, but not in the sense of breed, but to refer to the blood, purity of the canine, which is proved by the dash between words. It must be assumed that at this time the dense-pop prevailed and purely dog was relatively small. Later, as it is known, the name purepsov began to apply to the Russian greyhounds, who had a relatively short dog and came from mixing dogs with both chorty and eastern greyhounds.
It was the Anatolian kus, presented by some Circassian (?) prince, who married Stolypin’s relative. Brought red-peg dog and black bitch (Machevarian. Letters. – “Pr. and hunting,” 1880, VII).
Den from Persia, there were mostly dogs kaluga hunters: Chelishchev greyhounds also had among the ancestors of the mountain greyhounds (since the 1920s).
The Turkish campaign of 1828, in turn, had the consequence of many eastern greyhounds exported to Russia – Crimean and Turkish itself; Caucasian officers, returning to their homeland, constantly brought mountain dogs. The famous Stolypin bitch Lubezna, later (in the 30s?) Otradna A.S. Khomyakov, distinguished in Moscow gardens, also came from the Anatolian pieces stolypin, mixed with the canine, even more contributed to the consolidation of the glory of the eastern greyhounds and the opinion about the need to cross the dog with the 9s for the first lack of strength. “I should have seen,” Machevarianov said, “as the saratov gentlemen and, in imitation of them, the adjacent provinces of the hunters, puzzled by the Crimeans, rushed to get the dogs with the ears. There was no dissection of blood, no thoroughbreds, no articles, no fret: if only the ears hung; and it was easy to get it from the Kalmyks and Kyrgyz roaming in the Astrakhan and Saratov steppes. How many times in the analysis of these non-tops were mentioned princes Tyumen and Junger-Bukeyev as the main broods of such eminent breeds; Shamil was also the bravest.” A huge number of Crimeans were brought to the southern and middle black-earth provinces after the Crimean campaign.
Unsurprisingly, by the 1860s, most of the canines were mixed with crimeans, generally eastern greyhounds, lost a long dog and a characteristic staging of the ears – in the mortgage, that is, made short-haired and got an ear with a snatch, although short, but loose. These jumbled canines have been known to us around the 50s by the not quite correct name of pureps, implying they have a short captive dog. Such pure-pop dogs had at one time a very large distribution, but, in fact, did not have time to stand out in a special breed with permanent signs, as under this name were reasoned not only the exchange of dogs with the eastern, the most numerous, but also the products of crossing dogs with discharged English and Polish chorty greyhounds, of which many were brought to Russia in 1831 after the first Polish uprising. Therefore, the very popular belief that pure greyhounds came solely from mixing canines with English is wrong, and such Anglops were a minority. However, back in the 1920s, the English
“Zap. Hunter Simbirsk, Lips., p. 41.
Bitch Modestka, who belonged to Polivanova, made to pay attention to the English greyhounds, but since they did not correspond to our climate and in those days got with great difficulty, they were rarely seen by a few advanced dog hunters, who willingly, however, mixed the blood of English and choristers to the dog, as these cross-ears could not have such an ugly ear.
It can be said in the affirmative that by the 1860s all Russian dogs had lost their thoroughbreds, which could hardly have been found between them a greyhound without the slightest, even remote,
Fig. 6. Crimean Greyhound (“Hunting Calendar”)

impurities of the blood of the vistus. The Kurland dogs disappeared without a trace, probably even earlier, and only vague memories of them remained; there are no real dense-nesses, too, even in their homeland , in the provinces, lying to the north and east of Moscow. There were only better and worse-dressed dogs, and all almost had a loose ear: ears were kept in the form of a rare exception. The liberation of the peasants immediately reduced by at least three-quarters the number of dog hunts, which survived only the most zealous, true hunters, and before not particularly relying on the psa eels; this, of course, could not be conducive to careful management of the breed. The ancient type of dense-pop is so lost that some hunters, and the elderly, began to express the opinion that this breed never existed, mythical.
Indeed, at the Polytechnic Exhibition of 1872 and the first regular Imperial Hunting Society in 1874, there was not only not a single real dense dog, but most of the dogs, called dogs, were actually pure-pop.
These exhibitions, which had the importance of inspection of the available material, showing the complete absence and loss of certain types, served to unite the dog hunters and convinced them to refrain from further mixing of dogs with chorets and viscies and stick to the same type. As we shall see further, the result of crossing different family varieties was a modern dog, different from the former canine and densely muscular large development of muscles and greater strength, preserving their rod, and sometimes throwing. The 90s’ gardens showed, however, that these “improved” dogs could not yet compete in speed, compete with English and that in relation to the speed of greyhound racing we were as far behind the English as we lagged behind the Americans in trotting sport.
From this brief essay of the origin of our dogs it is obvious that the history of greyhounds in Russia can be divided into 4 periods. The first period – Tatar – from the 13th century to Alexei Mikhailovich, during which a new breed of Russian greyhounds was produced and the order of dog hunting was established. The 2nd period begins with von Lessin’s “Regula” and bringing greyhound hunting into a slender system and is characterized by a fascination with greyhounds, their malice, growth and strength, then the withdrawal of new breeds – Kurland dog and gustop. The third period – from the 1920s until the liberation of the peasants – is characterized by the fashion for the eastern greyhounds, the goofy mix of all the former breeds, the perfect disappearance of the Kurland dog and the almost complete loss of the dense-pop type. Finally, the newest, modern period of ours is distinguished by the desire of hunters to develop from the remaining material a universal dog, which would catch both in the distance and short, as well as the termination of experiments on the interbreeding of Russian greyhounds with Oriental and English.
As for the first period, there is little chance that it will ever be clarified. About the greyhounds of the last century, probably, in time will be found abundant material in the archives of the Ministry of Foreign Affairs, imperial hunting and some noble families. About the dog hunt of the early 19th century there is already a sufficient number of printed evidence of contemporaries, and one can imagine a fairly complete picture of the activities of dog hunters before emancipation. The distinctive features of this period: first the numerous varieties, caused by the desire of each large dog hunter to bring out their own breed, then the most careless mixing of them. Many of these family offspring had more or less sharp differences in frets, suits and internal qualities, so sharp that an experienced eye connoisseur could determine the dog’s belonging to one or another known hunt.
Let’s consider now the main of these family offspring.
We know that in Catherine’s times they were known as the owners of large kennels. F. Baryatinsky, the owner of the famous half-brothered Beast (see page 63), such historical figures as Count zubov, who very much wanted to receive this Beast, and Count P. I. Panin, who, and pacifying the Pugachev revolt, did not forget about the dogs, as can be seen from his letter to O.A. Pozdeev, which speaks of the rezving of the dog. , the grandfather of the famous dog hunters N.P. Ermolov, who recently died.
Еще более знамениты охоты графа Алексея Григорьевича Орлова, князя Салтыкова, светлейшего князя П. В. Лопухина; позднее славились наумовские, липуновские, трегубовские, сущов-ские, плещеевские псовые, также собаки Храповицкого и Коло-гривова. Все эти отродья давно исчезли, но кровь некоторых из них сохранилась в немногих современных псовых охотах. По преданию, у графа А. Г. Орлова были борзые всех пород, но преимущественно густопсовые, и он был главным выводителем этой породы, что более нежели вероятно, так как вряд ли кто имел такие средства и возможность иметь лучших производителей и такие знания, талант и чутье животновода. Охота его ездила в отъезжие поля за сотни верст, причем приглашались все соседние помещики. Ему же, графу А. Г. Орлову, принадлежал почин устройства в Москве садок, на которые заблаговременно рассылались приглашения-повестки по всей России*.
Князь П. В. Лопухин имел также громадную охоту (в Воронежской губ.) и был страстным любителем собак. Покойный А. В. Жихарев, говоря о происхождении своих борзых, передает, что сын князя П. П. Лопухин рассказывал ему, что отец за несколько часов до смерти позвал его к себе и завещал беречь, как брата, светлоголового кобеля Прозора. Эта масть преобладала в лопухинских борзых.
Н. М. Наумов, симбирский сосед графа А. Г. Орлова, постоянно охотился с последним, хотя имел очень большую охоту: 200 —
* Вероятно, в биографии графа найдутся и другие подробности, касающиеся его псовой охоты.
300 борзых и 30 — 40 смычков гончих внапуску. Борзые у него были густопсовые, псовые, чистопсовые, брудастые двух пород и малая часть английских и хортых. По-видимому, лучшие наумов-ские борзые происходили от собак графа. Последний перед смертью (в 1808 г.) передал Наумову, как ближайшему другу и товарищу по охоте, книгу «О порядошном содержании псовой охоты борзых и гончих собак», написанную под титлами в 1765 году. Эту книгу Наумов, в свою очередь, незадолго до кончины подарил П. М. Мачеварианову, пользовавшемуся его дружбой и имевшему его собак.
The greyhounds of I.P. Lyapunov also enjoyed high-profile fame in the early 19th century between hunters of the Tambov and Voronezh provinces. They were real gusty with an unusually long and thin dog, which was worried about the slightest movement of air even in the room. Thanks to the dogs of Lipunov from small-town nobles became a general-guarantor, acquired great funds and friendship of St. Prince P. V. Lopukhin. From Lipunov’s dense-pop occur cans A.V. Jihareva (see below).
I. Kologrivov, the famous half-mountain dog Heart, bought by General P. A. Ivashkin, apparently had a larger part of the interfering dogs. The same semi-pop belonged to Plekirkh, presented to him by the famous Orlov hunter N.V. Kireevsky. Blood of Kologriv dogs was also in the greyhounds S. Glebov; many greyhounds in kursk province have the ancestor of the Ferocious IB. I. Kologrivova (son). The ferocious, in turn, came from the famous mountain male Count Gudovich and the dog. From -Heart, as you know, there was no offspring; The ferociously tied with the dog bitch Pulka /Masolevsky, gave a number of frisky dogs.
Khrapovitsky’s dogs in Kaluga and Khodalei (in Tula?) were also of mixed origin – semi-gorsky, and many were even kovsy. Cherkes, a male Persian (?) breed, accidentally acquired by Khrapowitzky, became the ancestor of most of the greyhound Kaluga hunters – N.M. Smirnov, P. A. Bereznikov, V. F. Belkin, M.A. Geyer, N.V. Ma-sharova, N. P. Sorokhtin.
See. Tomiline’s article in “Prir. and hunting,” 1890,May. G. Kashkarov in the April book “Y. Hunting” 1878. explains in detail the origin of these dogs. Cherkes, by all accounts, was a pure-sis, not an eastern greyhound, as he had his ears laid back. Khrapovitsky started hunting (in Maloyaroslavetsky u. ) since 1846. From Cherkes and gray with the underpunds of the dog-sucking Saiga Prime Major A. St. Belkin was a red Black Sea Mars I and a half-bull snake. Mars was different
More details are available about the rocks of dense-pop Tregubov, Plescheva, Suschev in Vladimir and adjacent provinces, breeds famous for beauty and friskyness. This is how P. M. Machevarianov describes them.
Tregubovsky, “The dog is generally rude; growth average (!): males fifteen, and fourteen tops. Head with a forehead, but dry and with a duct among the forehead; The tong is dry and folding; eyes are huge skill, dark-colored, shiny and intelligent; ears are small, thin, put together and absolutely sharp – the end, and on the back of the head lie tightly one near the other. Steppe and the corps of the richness of the unspeakable; ribs are dense, barrel-like and down four fingers below the elbows; the sacrum is long and wide!.. Six fingers are placed between the rear maclaks; Black meat is huge. The body is strong and firm as an oak; the rule is subtle – really and short, with a rare, but long lavatory dog. The hind legs are set wide, the front legs are straight as arrows, and although rough, but bony, springy and dry; the grooves are glued together, (paw) in a lump, and the dog stands on the claws. Psovia is wavy and silky; its color is predominantly floor-to-floor, chubar, poluge-pegi and chubaro-pegi. This breed was the fiercest: from it was born a lot of dashing dogs. The throw of these dogs is fabulous. Their homeland is the Vladimir province of Suzdal county. But only this breed because of its richness and excess energy did not like lying and required constant work; otherwise it will either get fat or it will not be held back by any constipation.
The breed of orbak pleschev was the beauty of the perfect! All stalwarts: arshin, and males – arshin and one and a half tops in inclination; with long proud necks, statuesic to grace and extremely frisky. At the pleschev dogs, when the ears were raised
unusually spitefulness, coupled with frolics (once they were poisoned in the morning 12 russ, and he took a wolf alone). From Cherkes and the choral black-and-peg of the Village there was Cherkiza, from which both Mars, as well as Sultan (son of Cherkes and Zaletka) were led by greyhound dogs Berezni-kova and Smirnov. From the other son of Cherkes and Saletka – Arab and half-strong Serpent came the famous Siberia A. A. Atryganiev, dark blue with red underced males of enormous height, extraordinary width and strength, very angry, but with fallen eyes. Dogs Berez-nikova and Smirnov, who had a common hunt, were more part of black and black-peg in the underces and pure-pop, sometimes even chorty. Gayer dogs come from V.F. Belkin’s greyhounds, related dogs Hrapovitsky, Bereznikov and Smirnov. The snatch in the ears, which was noticed in the Geyer, Belkin and Mazharov dogs, was given by the semi-Crimean bitch of the sarnitsa. Siberia subsequently passed to N.M. Smirnov.
you, then the ends of them bent in advance. The dog is straight, soft and glossy. Its color is mostly white, gray and grey-pegi.
The breed of Ushchev dogs was like a pleschevskaya; but only had the following drawbacks: many dogs were white-nosed and with undersized eyes, and some – one eye had a great skill, and the other – small, white and snub. These dogs were unusually fervent, tenacious and excellent under the island, but in the fields far yielded to Tregubovsky and Pleschev. The color of the dog is white with sexual specks on the ears in the form of peas; there were also pogagues.”
From this description it is clear that Tregubov dogs could not be called gustops and, undoubtedly, contained the admixture of the Mountain.
In addition to these greyhounds should also mention the dogs of Count Apraxin, Nazariev, Voropanov, Koltovsky, Perkhurov, Prince Chekhdaev, Kostroma landlords Mustafina, Pavlov, who were also famous for their hounds.
Almost all of the designated hunts did not exist by the early 1970s; only the blood of some greyhounds in other owners has been preserved. The following family breeds belong to the modern dogs, which are evident at the beginning of the exhibitions.
Jiharev greyhounds. Retired Major General Aleksandr Jikharev, who died in 1881 at the age of 92, the landowner of the Tambov lip., began to hunt independently in 1815 and led his breed from the aforementioned Lipunov dogs, it was from Satan, light-water-peggo Dos eachi and gray-headed Biyan-ki, distinguished by the length and subtlety of the dog, which in the following generations, however, due to less care became shorter and rougher. In the 60s and 70s, the hunting of Jihareva was mainly famous for mountain greyhounds, which had a small subs of cans, not dogs. The latter undoubtedly had a subsion of mountain, as their ears were dissolved, as well as a subs of Kurland dogs, expressed in the curlyness of the dog of some dogs (Award N. A. Boldarev, etc.). He never exhibited his dogs, but their blood is valued and now in some hunts. In our time, the Schiharev dogs were no longer beautiful and thoroughbred, but were very angry and quite frisky, although not to the extent that they used to be in the 50s and 60s. Much more typical and bloodier were the densely-pop Borisogleb landowner A.S. Vysheslavtsev, who wrote under the pseudonym of the Old Hunter, who led the breed of grandfather clean until the 70s. A somewhat idealized portrait of one of his males was repeatedly placed in hunting magazines. The last member of the Milka breed was tied to one of the Jigarev males; her children were distinguished only by the length of the dog and the gray-pega mast, but were roughheads and had loose ears, although one of them, Shaitan G. A. Chertkova, received on V line. exhibition of a large silver medal.
Назимовские собаки более 40 лет пользовались известностью, как самые злобные. А. В. Назимов, помещик Тверской губ. (Бежецкого у.), умерший в 1888 году, держал охоту с 30-х (?) годов. Происхождение его собак довольно темное, по-видимому, они родственны борзым тверского помещика Н. Н. Гордеева, славившегося до 50-х годов своими злобачами, а также содержали кровь тре-губовских собак, самых богатырских по сложению. Во всяком случае, это собаки мешаные, причем подбор производился только по злобности, а не по красоте, даже не по ладам, почему они не имеют определенного, установившегося типа. По свидетельству некоторых охотников, имевших назимовских собак, в них была давнишняя примесь горских собак, почему большая часть борзых имела сравнительно короткую псовину и распущенное ухо, не будучи, однако, чистопсовыми; иногда выраживались и настоящие псовые с длинною псовиной. Судя по грубости и короткости головы, непомерной злобности, частой волнистости псовины, надо думать, что Назимов подмешивал изредка и кровь брудастых. Предположение это тем более вероятно, что до самой смерти Назимова у него всегда держались на псарне одна или несколько брудастых борзых. Понятно, что при скрещивании назимовских собак с другими отродьями борзых они хотя утрачивали свои отрицательные качества — грубоголовость, чистопсовость, плохое ухо, — но в большинстве случаев уже не имели прежней беззаветной злобности, т. е. кровь других пород пересиливала кровь мешаных назимовских. Одним из немногих исключений был Удав князя Гагарина от мачевариановской суки.
Из всего писаного о назимовских борзых охотниками, их имевшими, можно действительно заключить, что тип их еще не вполне установился; большею частью они были (по псовине) чистопсовыми, вообще ладными, широкими, сухими собаками, на правильных ногах, но с хорошими головами попадались редко; они именно отличались широколобостью, укороченным и заостренным щипцом, т. е. головою свайкой, особенно развитыми щеками. Вероятно, это зависело как от подбора собак с мертвою хваткою и очень развитыми мускулами челюстей, так равно и подмеси брудастых.
* Два хобеля и сука были подарены мне, а мною еще 6-месячными щенками — Г. А. Черткову, В. А. Шереметеву и (сука Вьюга ) С С Карееву. Последний, кажется, породы от нее не взял, т. к. считал жихаревских борзых мешаными.
Хорошие головы с ушами взакладе встречались редко, так же как черные глаза; чаще глаза были небольшие, желтоватые. Окраса бывают всякого, кроме муругого (красного с черным щипцом), что служит косвенным доказательством отсутствия в них крови восточных борзых.
Собаки эти имеют хороший рыск, послушны, даже кротки, не скотинники. Несмотря на то что не отличались псовиетостью, они тем не менее были очень выносливы и даже в 20° мороза, лежа в санях, не дрожали и не ежились. Особенною резвостью не отличались, но изредка между ними выдавались даже лихие собаки. Главное же достоинство их замечалось в злобности до самозабвения: они влеплялись даже в волчью шкуру. Смелые до дерзости, они брали всегда мертво, без отрыва, так крепко, как может брать только кровный бульдог, причем закрывали глаза и опускались всем корпусом. Эта злобность была у них прирожденною, так что молодых собак не было надобности притравливать. Как известно, А. В. Назимов и его соохотники, державшие собак той же породы, охотились главным образом зимою, внаездку, на нескольких санях объезжая волков, заблаговременно приваженных к падали.
Известность назимовских борзых начинается с 50-х годов, и об его черно-пегом Хищном упоминает еще Дриянский в своих «Записках мелкотравчатого». Но особенною славой пользовались они в семидесятых и восьмидесятых годах, когда большинство охотников предпочитали злобность борзых их резвости и травлю волков — травле русака. Чистокровные борзые этой породы были и, может быть, имеются у А. И. Новикова, А. С. Паскина, Р. С Си-пягина, князя В. В. Мещерского, Л. В. Лихачева, у тульских охотников братнев Бибиковых и др. На выставках настоящие кровные назимовские собаки, кажется, йикоща не показывались, что весьма понятно, но на волчьих садках они участвовали неоднократно с блестящим успехом*.
Гораздо большее влияние на лады современных псовых имели протасьевские борзые, которые, будучи более ладными, мало уступали им в злобности. Помещик Сапожковского у. Рязанской губернии Ф. В. Протасьев вел породу от чистопсовых М. А. Траковско-го. По свидетельству племянника Протасьева г. П., в борзых Ф. В. Протасьева имелась примесь английских, сказывавшаяся в бедности псовины, угловатости линий головы, в короткости правила и отчасти в ушах. Сам Протасьев, по-видимому, не подмеши
* После публикации этой статьи в мартовском номере журнала «Природа и охота» за 1897 год в майском номере появились замечания А. Новикова «По поводу статьи «Русские борзые». См. раздел «Приложения» — Ред.
вал (?) посторонней крови, хотя г. Губин и утверждает, что он перепортил своих собак тем, что переблюл всех своих сук с кобелем породы собак какого-то Кареева. Но кареевские собаки были у двоюродного брата Протасьева, велись особо, и сам Ф. В. был слишком высокого мнения о своих собаках, чтобы смешивать их с другими, тем более что он часто говаривал: «Борзые кареевской породы хотя и красивы и злобны, но по ногам далеко не родня нашим»*.
Большая часть протасьевских собак хотя имели чистопсовый тип, но были почти всегда псовистее борзых Траковского; некоторые собаки, как, например, Опромет е. и. в. великого князя Николая Николаевича и Кидай графа А. Д. Шереметева, могли называться скорее псовыми, чем чистопсовыми. Вообще эта порода пользовалась большою известностью в 60-х и 70-х годах, особенно с того времени, как Протасьевым были проданы графине де Шово (Юсуповой) два кобеля громадного роста за 2000 р. с, производившие фурор в Париже между русскими охотниками, посетителями графини. Кровь протасьевских собак имеется теперь во многих охотах, а именно: у Н. А. Болдарева, гр. Строганова, П. Н. Белоусова, которым была куплена у М. А. Траковского знаменитая Быстра.
Еще большее значение для псовых охотников в последнее двадцатилетие имели мачевариановские собаки, едва ли не самые ладные и красивые современные русские борзые, не имевшие, однако, типичных признаков псовых, так как они заключали не особенно давнюю подмесь горских. По словам самого П. М. Мачевариа-нова**, порода ведется им от своих (?) собак, трегубовских, нау-мовских и салтыковских. В конце сороковых годов он, задавшись целью дать своим псовым большую ширину ладов и более силы в скачке, впустил в породу кровь горских борзых А. В. Жихарева и А. А. Столыпина (Фоблаза Белякова, подаренного последнему Жихаревым). Полуторки вязались затем с чистокровными псовыми, и таким образом им была выведена особая разновидность псовых, отличавшаяся красотою головы, большими навыкате глазами, чрезвычайною шириной зада, не вполне правильными (не вза-тяжке) ушами, сравнительно негустою и недлинною псовиною и правилом вокороть. Собаки эти славились (с 50-х годов) в Симбирской и соседних губерниях необычайною резвостью, но не отлича
* Н. А. Кареев писал, что отцом его А. Н. Были проданы Протасьеву 3 кобеля, в том числе знаменитый черно-пегий Хищный (назимовской породы). Что у Протасьева встречались собаки очень псовые и даже в завитках, видно из слов В. Насонова («Пр. и охота», 1892 г., июль). ** «Ж. охоты», 1876 г., июль.
лись злобностью и были небольшого роста. В семидесятых годах они уже настолько измельчали и выродились, что Мачеварианов был вынужден в 1873 году искать для продолжения породы родственных им производителей и обратился с этой целью к арзамасскому помещику Н. П. Ермолову.
Ермоловские собаки мало отличались от мачевариановских, так как имели аналогичное происхождение, заключали ту же кровь, хотя, может быть, имели еще более древнюю родословную. Мы видели выше, что еще у прадеда Н. П. Ермолова были (в 1776 г.) замечательные по красоте и резвости серо-пегие псовые (густопсовые?). Прадед же Ермолова вел породу от собак своего прадеда, так что собаки велись в одном роду без подмеси других (не псовых) пород почти два столетия — факт в охотничьих летописях беспримерный. Только дед Н. П. Ермолова, достав горского кобеля, завел мешаных собак. Вторично кровь горок подмешана к породе в 1851 году. Именно через полугорского кобеля Любима I (от чистокровного горского кобеля Яненко и псовой Летки Н. Н. Ермолова). Затем в 1860 году порода быДа подновлена тре-губовской Славой, а в 1869 мачевариановской Алмазной. С 1873 года Н. П. Ермолов и П. М. Мачеварианов вели уже одну общую породу.
После смерти Мачеварианова в 1880 году и Ермолова в 1889 г. собаки их рассеялись по всей России, и теперь мало найдете охот, не заключающих крови этих борзых. Но чистокровных мачевариановских или ермоловских, кажется, ни у кого не ведется*; всего ближе к; этой породе борзые П. Ф. Филатова, содержащие очень много крови мачевариановских собак.
Кроме этих угасших и смешавшихся между собою и другими псовыми отродий следует упомянуть о собаках Каракозова, Лихарева, Ратаева, Ступишина, Назарьева, Воропанова. Борзые Каракозова (Аткарского уезда) отличались ростом, шириною склада, коротким, сравнительно толстым щипцом и недлинною сравнительно псовиною; они в особенности славились злобностью; многие за русаком вовсе не скакали. Из них знаменитый Космач (не с подмесью ли курляндской псовой или брудастой?) догонял вугон старого голодного волка и брал его в одиночку. Лихаревские собаки были настоящими густопсовыми старого типа, что доказывает Поражай Перепелкина на выставке, очень похожий на рисунок густопсовой Вышеславцева. По мнению некоторых, лихаревские псовые происходят от прежних кареевских борзых. Ратаев,
* После смерти Н. П. Ермолова лучших производителей: знаменитых Кару и Сердечного, а также Проказу, Смелого и Славу, приобрел П. Н. Белоусов и до сих пор имеет несколько чистокровных ермоловских.
бывший управляющим императорской охоты, помещик Романовского уезда Ярославской губернии, известен охотникам главным образом по Злодейке, кровь которой имеется в весьма многих современных борзых, но Злодейка, кажется, происходила не от его собак, так как вся охота была продана им еще в 1852 году*. Н. Д. Ступипшн (Сергиевские минеральные воды) имел до 80-х годов замечательно типичных густопсовых, происходивших из знаменитой некогда (в 40-х годах?) демидовской охоты в Сиверцах (Петербургской губернии). Последние ступишинские борзые вместе с близкими к ним (?) по виду назарьевскими собаками были приобретены недавно умершим П. Ф. Дурасовым в 1888 году. Кровь воропановских псовых, тоже весьма замечательных по красоте и резвости, сохранилась (?) в собаках П. Долинского.
Все эти разновидности можно считать исчезнувшими, так сказать, растворившимися в других породах. В настоящее время вследствие выставок, удобства сообщений все псовые охотники успели перезнакомиться между собою и вряд ли можно найти у кого-либо борзых, которые велись бы в чистоте, без прибавления крови других неродственных собак в течение 20, даже 10 лет. Большинство современных борзых приобрели общий тип, который можно назвать современной псовой, то есть все породы и разновидности, перемешавшись между собою, были как бы приведены к одному знаменателю. Исчезли следы густопсовой, главным образом узкая глубокая грудь, плоские ребра, длинная волнистая, тем более кудрявая псовина, унаследованная от курляндских псовых, вымерших много ранее; все эти признаки замечаются теперь у немногих собак в виде исключения, по закону атавизма, вспоминая породу. Не стало вовсе чистопсовых борзых как английского, так восточного происхождения, хотя на юге России псовые всегда получают укороченную псовину. Кончились бестолковые скрещивания псовых с вислоушками, и вместе с тем прекратились робкие попытки реставрации отжившей свой век густопсовой, в ее несколько карикатурном виде. Все русские борзые получили общий, довольно однообразный, но еще неопределенный (?) вид и отличаются между собою, собственно говоря, только большею или меньшею красотою, большею или меньшею грубостью форм, что зависит не столько от вкусов владельца, сколько от того, предпочитается ли им резвость злобности или наоборот. Весьма сомнительно, чтобы в каком-нибудь уголке России могли уцелеть псовые до сих пор неизвестной породы, т. е. разновидности без примеси крови собак мачевариано-ермоловских, протасьевских, жихаревских и в осо-бенности кареевских.
* См. публикацию в «Моск. ведом.», 1852 г., № 143. Продавались 17 гончих и 20 борзых.
Из современных борзых наибольшее распространение, если не известность, имеют протасьевско-ермоловско-кареевские, именно собаки С. С. Кареева (племянника знаменитого охотника А, Н. Кареева), хотя последние вследствие частых подмесей менее кровны, чем собаки Н. А. Кареева (сына А. Н. Кареева, охота которого была воспета Дриянским), Другова, В. Н. Чебышова, С. А. Барышникова и князя Д. Б. Голицына, охотников, умевших вовремя остановиться и сохранить в породе своих собак преобладание крови старинных кареевских собак. Успех борзых С. С. Кареева объясняется прежде всего тем, что они оказались на первых
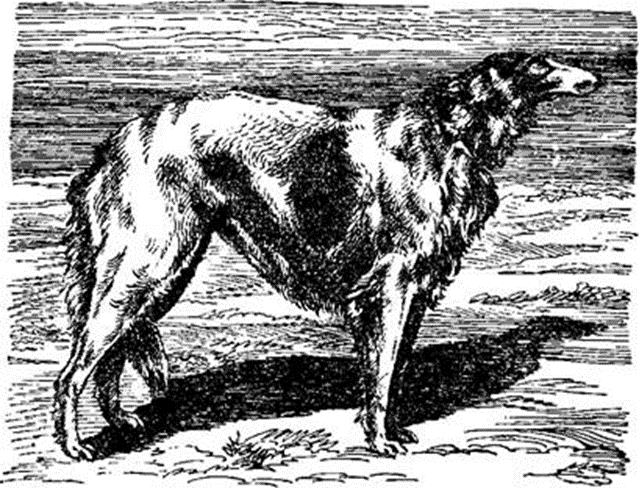
выставках единственными собаками, близкими к старому густопсовому типу, имели очень большой рост и длинную псовину, а также умением владельца, нашедшего в них источник немалых доходов. Когда же охотники перестали увлекаться длиною псовины и лещеватостью и познакомились с борзыми другого, более сильного типа— протасьевскими и мачевариано-ермоловскими, то С. С. Кареев первый, чтобы улучшить свою породу, уже начавшую вырождаться, стал прибавлять в нее кровь других собак.
По-видимому, родоначальники собак С. С. Кареева — Наян и Вихра, от которых он повел породу, не были чистокровными кареевскими, которые едва ли не происходят от собак князя Барятинского, близкого родственника по женской линии деда С. Кареева. Обе собаки, во всяком случае суки, были полукровными кареев-скими, и Вихра принадлежала сначала Коробьину, а Наян Лихареву (см. выше)*. Эти два производителя дали целый ряд выдающихся собак, обращавших общее внимание на первых пяти московских очередных выставках. Громадный, 19-вершковый Победим С. С. Кареева, Награждай и Наградка Чебышова, Раскида Типольта были на них бесспорно лучшими представителями русских борзых и более других приближались к старинному типу гус-

* Коробьин («Пр. и охота», 1885, апрель) доказывает, что Вихра происходит от Злодея Иванчина и Вьюги А. Н. Кареева, которая тоже была полукровной, так как родилась от суки Бабина и кареевского кобеля. Наян был сын лихаревского Похвала и Проказки А. Н. Кареева. Н. А. Кареев отвечал на эту заметку, что Наян происходит от Проказки и Награждая отцовских собак и что отец только давал Наяна Лихареву для породы. Позднее Корш говорил, что Злодей, отец Вихры, был мосоловских собак, однопородных с свечинскими, а Вьюга, мать Вихры, от кареевского Карая и суки другой породы (Бабина), принадлежала Н. В. Лихареву, соседу А. Н. Кареева, не имевшему будто других собак, кроме кареевских.
tops. But already in the handsome Karay Kartavtseva was affected by the degeneration of the breed due to close kinship, expressed in a complete lack of energy. This fact probably prompted C C Kareev, as an experienced dog breeder-practitioner, to look for suitable producers for blood refreshment. First he was taken litter from Bnyakovsky’s Undaida (see below), then from the Military Predator; but these litters were not particularly successful, and Kareev settled on the Rataev lame Villain. The latter gave him and others from the blood-beary kareev males a lot of very good dogs, but gave most of them its slobbering and murugo-peg color. The origin of the Villain and the brother of her Sorcerer, who was at the 1st regular exhibition, is rather dark, th it can be found out, probably, in the archives of the imperial hunt. S. Kareev said at first that the Villain was a breed of Domogatsky, who led the breed from the dogs of Kareev’s grandfather Prince Baryatinsky, implicitly hinting that the Villain is also akin to The Karelian. He later claimed that it came from the dogs of a P., the landowner of one of the black-earth counties, all whose dogs entered the imperial hunt. Improved Kareev dogs were successful, but it seems that S. S Kareev, due to the high demand selling expensive prices of the best producers, was not able to properly lead the breed, and it has now lost its typical signs and growth. Of the former Karelian greyhounds, the most purebred is now preserved in the dog hunt of P. N. Belousov: it is Victory, daughter of the famous Swan S. A. Baryshnikov and Ice, originating from the famous Lubka (evil honey) and Amisky (ash honey). Detailed Victory certificate from the owner.
Other owners of modern canines should point to N.A. Brdarev, Prince D. B. Golitsyn, V. N. Chebyshov, N.V. Mazharov, Prince N. M. Vadbolsky, Chelishchev, P. F. Filatov, P. N. Korotnev, A. A. Durnovo, P. N. Belousova, N. N. Bibikov, and others.
The history of Moscow’s regular exhibitions, partly the garden – is the history of modern greyhounds, and very instructive. We see how consistently, one by one, the representatives of the main varieties are shown to them, as then the corifes of the exhibitions were the main producers and newers
The answer to N.A. Khomyakov. “Pr. and hunting,” 1885, July, “Pr. hunting,” 1892,August, p. 113.
the blood of other greyhounds, who began to be born due to the conduct in close kinship, as gradually the main varieties lost thoroughbred, not always improving on appearance and field qualities.
At the first regular exhibition (1874-75) there were, in fact, representatives of three certain varieties of canines – Kareev, Belkin and Jiharevskaya, as the origin of the greyhounds of the king’s pack remained unknown. The dogs of the Karelian breed, exhibited by S.S. Kareev, V.N. Chebyshov and A.A. Tipolt, prevailed. They paid general attention to beauty, growth, dog, but all had loose paws: a long, piled on the side of the rule and a relatively weak ass. A huge 19-year-old will win Kareev, who received a big silver. medal, was, moreover, a besled. Red-Pegi Award Chebyshova, awarded a gold medal (never more than a dog at Moscow exhibitions) and recognized as the best representative of the Kareev breed and canine in general, had a somewhat short neck and a small squat, was flattered and narrow. In fairness, Rascida Tipolta was prettier and more correct: she had an excellent head and big eyes, but a short rule and a relatively short dog; there was something pure, but its main drawback was the male stats, i.e. the shortness of the pad.
Of the other greyhounds deserved attention Award N. A. Bol-Darev (b. ser. honey) jiharev breed, distinguished by working frets, dog in curls, roughness of the head and showed a remarkable malice in the garden. His original dog, which confused some imaginary connoisseurs, came from, obviously, from impurity, perhaps distant, Kurland dog or Kurland brudast; but certainly not a sheepdog in any way. In the seventies, greyhounds were not yet a particularly rare rarity and met, for example, in the hunts of Nazimov, Gubin, Pizyinov, zapolsky, etc.
Similarly, they gave the impression of excellent field dogs pure-pop burmaty Karai and a young red-peg, dog-okay V. Mazharov, who also received large silver medals; Karai turned out to be a dog of outstanding malice. In all the Mazharov greyhounds, the recent impurity of the Crimean, expressed in loose ears, is very noticeable. His majesty’s pack was very elegant, but not the same. Black-and-pegy Amiable, stalwart and beautiful male, very different from the water-peggo, even more doggy and wonderfully long Swan, and the red-pegy Sorcerer (brother of the mentioned Villain) was given downcloth and the head was similar to the Mazhavinsky Twist, but had the best eyes.
The second exhibition was somewhat more diverse. In addition to very sweet – Kareev’s Award with good eyes and correct ears (silver. medal), Chebyshov’s award with a few loose ears (small silver, medal) and a few coarse-headed and low-eyed Nayan (b. ser. honey) Chebishov – was issued in particular by the zhlad of Prince Cherkassky. This wonderfully properly composed male, the best representative of the breed of pureps, received a bolip. Silver. Honey, although on points came to the gold, came from the dogs of M.A. Trakovsky and was somewhat akin to pro-Shufflian greyhounds. Little inferior to the Glorad in beauty Ugar Tumanovsky (b. sulfur honey), a dog on frets, but poorly dressed, a wonderfully correct male with a great head and eyes and quite correctly tightened ear, as in ancient thick-shouldered. Unfortunately, both males disappeared without a trace as producers, at least their offspring at exhibitions was not shown. In this respect, the grey-peg predatory Vojkov dogs, which belonged to his imperial highness to the great Prince Nikolai Nikolaevich (b. ser. honey), although he yielded to The Hunger and Ugaru, brought more benefits, as it was taken from Kareev litter. This very elegant, but poorly dressed male came from the Jiharev-praise, the father of the Boldarevsky Award, and from the dog D. M. Elagin.
In the following year (1877) nothing new and outstanding was exhibited. There were many dogs of the Karelian breed, shown by A.N. Kareev, V.V. Friends and others. D.T. Kanshi-na greyhounds, although in many ways superior to the Kareev, had very little influence on the breed and disappeared almost without a trace along with the death of the owner two years later. (However, according to N.A. Boldarev, there are 3 beautiful males from P.N. Belousov.)
At the 4th regular exhibition, organized on the occasion of the war only in January 1879, a great revival in the world of dog hunters was introduced by the Shufflian dogs, sold after the death of F. V. Protasiev in different hands. Particular attention was paid to the water-pegi Opromet of his imperial highness of the Great Prince Nikolai Nikolaevich (bolip. silver. honey), with excellent legs, a few bald head, good gla-zami and well-dressed, even in curls; then chubaro-pegi Kidai
According to Kashkarov, the glorad originated (from the paternal side) from Cherkes (above) Atryganev; it was from The of Trakovsky and Byrdin’s male, the murgoy Mars 11, which seemed to be very similar.
Count A. D. Sheremeteva, a very posture male, very sweet, with a good head, but poorly dressed and generally pure-double in shapes. Other pro-Shufflian dogs, turning off the defeating Bol-Darev, did not represent anything remarkable. Dog hunters sharply divided into two camps: some admired the pro-shuffle-Ovestov and Kidai, thoroughly pointing out the immaculateness of their working frets; others praised Karay Kartavtsev, the son of the Award-winning Chebishov. Karay was really wonderfully beautiful and even had an overly thin and graceful head for a male. But his hind legs were cow’s, and his paws, like most Karelian dogs, were round, feline. In addition, later it turned out that he was completely devoid of energy and malice, caught in the hunt, galloped badly, and after each baiting his front legs trembled; in addition, it was infertile. Fascinated by the Karelian and pro-Tasiev dogs, the hunters almost did not notice the quail-pibarago striking dashing-rev dogs. It was a medium-sized rather wide and powerful male on good legs, with a very low-slated rib, a rather dry head, with beautiful eyes, richly dressed, in curls. It was not at any exhibition, and it was very strange that it was awarded only a small silver medal, which was probably the reason that it was not launched by the manufacturer. The unseen, i.e. small, though very sweet pure-pop – Snake and Mytarka – the best of chelishchev dogs did not pay attention.
The fifth exhibition is remarkable in that it for the first time there are very successful products of crossbreeding of different varieties. With S Kareev, convinced of the need to refresh the blood of his dogs, finally stopped at the Rataev Villain, the sister of The Sorcerer. The villain, as opposed to his brother, who gave though wonderfully sweet and unusually wide-thused dogs, but kutsyh, turned out to be a wonderful producer. The best representative of the improved Kareev dogs was the red-pegi (murugo-pegi?) by the Chebishov Wizard from his Award, very similar to his uncle and quite deserved to be awarded a large silver medal. Half-blooded Karelian dogs – the pologany-pegy Nayan Kareeva (from Togia and the Villain), Lyubi Chebyshova (from The Award and villains), Will Win II Kareev (from Victory I and the Khomyakovsky Awards) – also received great silver. Medals. The highlight of the exhibition was, however, late
The strikingness was summed up by his imperial highness to the great Prince Nikolai Nikolaevich.
At the St. Petersburg Exhibition of 1878.
Cited on the show and the examination is therefore not exposed to Udav Udav hn. P.S. Gagarin (Nizhekim lip.) from the Machevarian-Doveka and the male baron Yomini Nazimov’s dogs. It was really a very good-looking and spiteful male, of very large stature (18th, extremely well-built, with a great head, but a coarse dog. At the same exhibition was shown G.A. Chertkov very good male Shaytan (b. sulfur honey.) From Milka Viseslavtsev and the Jiharev dog, who gave him a rough head.
Blood Machevarian dogs, which have long been famous among Nizhny Novgorod, Simbir, Penzen and other hunters, appeared only the following year, after the death of P. M. Macevarianov (1880), first the ulcer, shown in the autumn of 1880 in Tambov at the exhibition of the Tambov Department of the Imperial Society (VI), then on the VI of the line. exhibition in Moscow Ube N. A. Boldareva, a red male of short stature, like all Machevarian dogs, with excellent head, eyes and ears, dog in curls. Both dogs received the right big silver medals. At the VII exhibition there were black with underpnage greyhounds P.A. Bereznikova, shortly before who entered the imperial hunt. All 12 dogs were fairly typical pure dogs, some of them had loose ears. For the same type they were given a gold medal. Karai, Terzai and Lubka Verderevsky, who received a large silver medal separately and for the pack, stood out from the thoroughbred Karelian. Of the Karelian improved, the villain of the 2nd S.S. Kareev (from Tohray and the Ratayev’s Villain) was remarkable, receiving a bol. Sir. Honey. AT THE VI and VII exhibitions; it is a muscular and poorly dressed bitch, very sweet and showing remarkable friskyness and great spite. The b. ser were also very good. medals of The Gift and Fire of V. N. Chebyshov from The Defeating Kareev and the Rataev Villain and very similar to her; Also The Villain Kn. Gagarin from the Karelian Victory I and villains II and his own Dear from Udav and Kareev Villain II, which combined, therefore, the blood of the Machevarian, Nazim, Kareev dogs and Rataev villain, which was very similar. The large hunt, exhibited by the young hunter V.I. Likhachev, consisted mainly of the blood (?) and half-blood dogs sold to him by Kareev and half-blooded dogs and very ordinary pure-pop greyhounds, bought from Yaroslavl hunters – Dedyulin and Trutnev.
* Подарен мною щенком.
** Поражай сын Терзая и Вихры; Терзай от Старого Наяна н той же Вихры.
Значительное количество собак, родственных мачеварианов-ским, появилось лишь на следующей, VIII выставке, именно ермо-ловские и филатовские. Все они отличались отличными головами и глазами, сухими ногами, шириною склада, были очень однотипны, но мелки ростом, бедно одеты и имели укороченное правило. Лучшими из ермоловских оказались: муруго-пегий Карай, самый рослый изо всех (16У2), с небольшою прилобью, получивший только малую сер. медаль, и его однопометница красно-пегая Кара*, едва ли не самая красивая и ладная сука изо всех бывших на выставках, не исключая типольтовской Раскиды и Наградки Кареева. Она получила большую сер. медаль. Из собак П. Ф. Филатова очень хороши были Черкай (от мачевариановского Данъяра) и в особенности сука Тамара**. На этой же выставке Н. В. Мажаров показал потомство своего Выручая (от Лиходейки) — Милку и Красотку, черных с подпалинами сук, очень ладных и несомненно лучших изо всех мажаровских собак и заслуживавших больших сер. медалей. Борзые Д. С. Сипягина и Ф. А. Свечина, происходившие главным образом от назимовских, по виду не представляли ничего замечательного, но некоторые из них (особенно Туман Свечина) выказали на садке замечательную злобность. Большая охота графа А. Д. Шереметева, занимавшая, подобно прошлогодней лихачевской, значительную часть манежа, была составлена главным образом из потомков протасьевских собак, именно Кидая, не выходивших из уровня посредственности.
На IX опять первенствовали борзые Ермолова, Филатова и М. В. Столыпина, тоже мачевариановские. На ней кроме очень хорошей и кровной суки Удачи Н. П. Ермолов показал результат не особенно удачного скрещивания мачевариано-назимово-кареев-ских собак, именно Гордеца, происходящего от Удава и гагарин-ской Злодейки (см. выше). Большой интерес представили многочисленные борзые, выставленные П. Ф. Дурасовым, происходившие частою от полумачевариановской суки, царских Лебедя и Любезного (см. 1-ю очер. выставку) и Нахала Ратаева (от Чародея и Злодейки, т. е. брата и сестры). Позднее Дурасовым были приобретены от Ступишина (см. выше) 2 кобеля и сука демидовских собак густопсового типа и куплены несколько борзых у сына известного симбирского охотника Н. В. Назарьева, славившегося своими собаками и имевшего также знаменитых плещеевских псовых.
На X очередной выставке лучшими псовыми были: Порхай и Победка князя Д. Б. Голицына (от Подара Чебышова и ратаевской
* По мнению Н. А. Болдарева, бывшая на XXI выставке Дивна П. Н. Белоусова по костяку и мощности сложки выше Кары.
** Родоначальниками филатовских собак были мачевариановские красно-пегий Кролик, черно-пегий Даньяр и полово-пегая Польза.
Злодейки), Сердечный* Н. П. Ермолова, получившие большие сер. медали, и Барышникова кровный кареевский Лебедь, один из выдающихся представителей породы, почему-то удостоенный только малой серебряной медали.
На XI выставке Ермолов показывал уже других мешаных собак — детей своей Кары и болдаревского Карая (от протасьев-ского Поражая), но кровь протасьевских собак, хотя увеличила рост ермоловских, но придала им много грубости. Н. А. Болдарев выставил 4-х кобелей, 3-х от Поражая, в том числе очень ладного Алмаза (б. сер. мед.). Д. Б. Голицын показал 4-х собак от Подара Чебышова (см. выше) и Русалки Кареева (дочери Хищного Воейкова и кареевской Наградки); из них выдавались Русалка, с небольшой прилобиной (болып. сер. мед.) и Резвый (м. сер. мед.). Лучшею собакою выставки был, однако, упомянутый выше полово-пегий Лебедь С. А. Барышникова (от Пылая Кареева и чебышов-ской Наградки), получивший уже бол. сер. медаль, так же как и мало уступавшая ему однопометница Вихра.
Следующие две выставки отличались многочисленностью и разнообразием представителей новых разновидностей псовых. Все собаки XII выставки были смешанного происхождения. Из них новыми для посетителей явились борзые Д. П. Вальцова и К. Н. Болдарева. Первый выставил 8 собак, большею частию от своей Подруги и мачевариано-ермоловских кобелей. Подруга никогда не бывала на выставках, но пользовалась довольно широкою известностью, как замечательно резвая, злобная и ладная сука**. Однако большая часть ее потомства отличалась малосогнутыми задними ногами, которые давал, кажется, протасьевский (болдаревский) Поражай. Лучшими были Поспех (б. сер. мед.), из сук — Колпица (б. сер. мед.). Родственное происхождение и те же недостатки имели собаки К. Н. Болдарева, из которых лучший — Подар (от Поражая и Подруги), получил большую серебр. медаль. Собаки А. И. Храповицкого тоже родственны вальцовским, т. к. происходят от сто Лезгинки (полумачевариановской). Н. П. Ермолов, в свою очередь, показал 7 собак, родственных вальцов-
* Сердечный был после смерти Ермолова приобретен П. Н. Белоусо-вым, в охоте которого был производителем.
** По Озерову, Д. П. Вальцов ведет свою породу от Подруги, протась-евского Поражая и полумачевариановской Лезгинки; затем им была снова впущена кровь протасьевских — через Кидая л ермолово-мачеварианов-ских, через (?) Лукавку Ермолова. Подруга, родоначальница многих современных псовых, полукровная (полуанглийская от собак князя Д. Д. Оболенского, который имел англичан и псовых) назимовская, от его Пылая и Сиротки, дочери Сверкая Бахтинского и свечинской Душеньки. Лезгинка — дочь мачевариановской Блошки и Нахала ивашкинских собак.
ским, именно Карая II от Подруги и Поражая и 6 молодых от этого Карая и своей Кары, но ни одна не выдавалась из среднего уровня. Впоследствии сам Ермолов сознавался, что Карай оказался плохим производителем. Самою выдающеюся собакою этой выставки была Сударка Гагарина, впоследствии Глебова (б. сер. мед.), от Удава и Злодейки II (см. выше), лучшее, что дал Удав, от которого, как мешаного кобеля, получалось потомство с довольно разнообразными наружными и внутренними качествами.
XIII выставка отличалась многочисленностью борзых (107) и количеством новых молодых экспонентов. Из прежних Н. А. Бол-даревым приведено было 7 собак, большею частию от протасьевских и полупротасьевских кобелей и ермоловских сук. Из них три, в том числе Алмаз, уже были на прежних выставках; из молодых же лучшею оказалась Кара, дочь Карая II и Кары Ермолова. Последний прислал 5 собак по первой осени; из них 3 однопометника Кары Болдарева получили порознь малые серебряные и большую серебряную медаль за свору; самому же заводчику за правильное ведение породы был выдан ценный приз (в первый раз). Все эти собаки по красоте форм уступали прежним кровным ермолов-ским и мачевариановскими, выигрывая лишь в росте и полевых качествах (?). Прежний тип этих собак более всего сохранили отличные суки П. Н. Коротнева Радость и Юла от ермоловского Сердечного и Наглы владельца (от ермоловского Козыря). Очень удачным продуктом скрещивания обновленных кареевских собак с мачевариановскими явилась сука Заноза (мал. сер. мед.) А. Ф. Васильева от Подара кн. Д. Б, Голицына и Летки Филатова. Собственно мачевариановскйй тип на выставке сохранен был только П. Ф. Филатовым, замечательно красивый кобель которого Соболь был лучшим кобелем и вполне заслуживал присужденную ему награду (б. сер. мед.). Прочие собаки, за исключением Грубияна А. В. Шумовского (от борзых Н. В. Мажарова), сохранившего тип гейеровских, имели еще более сложное происхождение и заключали в себе кровь протасьевских, ермоловских, жихаревских собак и вальцовской Подруги. Большая часть собак, выставленных Н. И. Сорохтиным, — от Варвара своих собак (4-я очер. выст.) и сук Вальцова и Шумовского; лучшим был, однако, Зверь от Хватая М. В. Столыпина (мачевариановского?) и Зацепы Шумовского. Борзые (6) Г. О. Немировского от собак Мачеварианова, Гагарина и Вальцова не представляли ничего замечательного. Из 8 борзых И. В. Иваненкова от собак Вальцова и Болдарева лучшею была очень рослая, но чистопсовая по псовине Милка (б. сер. мед.). Из 12 собак К. В. Шиловского, происходивших от мешаных жихаревских, протасьевских и вальцовских, достойна внимания Победа (бол. сер. мед.). Лучшею из озеровских была бурматная
Голубка (бол. сер. мед.) от Данъяра и Сайги Вальцова, затем отец ее — черный Даньяр (от Араба, сына Удава и Злодейки кн. Гагарина, и Лезгинки Вальцова). Аналогичное происхождение имели и борзые (3) А. И. Храповицкого, т. е. также от собак Вальцова. Из них чубарый Марс, молодой кобель по 1-й осени, получил бол. сер. медаль. Как видно, на этой выставке преобладало потомство валь-цовских и болдаревских собак, о происхождении которых говорилось выше.
На XIV выставке выдавались и преобладали мешаные ермолов-ские. Из них лучшею была Серна Н. П. Ермолова от его Сердечного (см. выше) и коротневской Наглы (дочери ермоловского Козыря) — замечательно ладная сука с отличною головой и совер^ шенно правильным закладом ушей, но очень сиротливая. Она получила большую серебряную медаль и была куплена за очень дорогую цену молодым охотником И. Т. Долинским. П. Н. Корот-нев выставил Крылата (от Дорогого Болдарева и своей Наглы), грубого и несколько горбатого кобеля, впрочем, лучшего на выставке (бол. серебр. медаль) и купленного в Англию для Уэль-слея за 400 р. с. Очень хороша была также Ведьма кн. Д. Б. Голицына (б. сер. мед.) от Щеголя Ермолова и Змейки кн. Д. Б. Голицына, Утеха Н. А. Болдарева (от Карая Ни ермоловской Кары), не подвергавшаяся экспертизе, затем Раскида И. П. Соколова (от Атамана Болдарева и Подруги II Вальцова). Шиловский выставил 10 собак, родственных болдаревским и вальцовским и большею частью уже известных. Борзые Инсарского происходили от гага-ринских собак; близкое с ними происхождение имели столыпинская Наградка (м. сер. мед.) и большая часть борзых Г. О. Неми-ровского. Наконец, И. Т. Долинским выставлено было 14 собак от кареевских с подмесью мачевариановских, отчасти воропановских; лучшею из них признавалась Вьюга, чистокровная кареевская от Победила I и Наградки, одна из лучших сук кареевской породы, с совершенно правильными задними ногами (бол. сер. мед.). Очень хороша была также Леда (бол. серебр. мед.), от Любезного Кареева и Любки Вердеревского.
Начиная с XV-ой, московские очередные выставки начинают, видимо, приходить в упадок и терять свой интерес для псовых охотников. Эта выставка была особенно бедна борзыми, и едва ли не лучшими на ней были полуермоловские собаки г-на Панова, из которых Даньяр (от Озорника своих собак и ермоловской Кары) получил на XV и XVI выставках малую серебряную медаль, на выставке же 1889 года в Петербурге — большую серебряную.
На XVI выставке также большая часть борзых были мешаные — ермоловские и гагаринские. Вдовой Н. П. Ермолова, умершего в 1889 г., выставлены четыре ничем не замечательные собаки и приведена для продажи вся охота — около 30 борзых. Лучшими оказались П. Н. Коротнева Блистай (от его Крылата и Проказы Ермолова) с торчащими, как у лайки, ушами (б. сер. мед.) и Швырок от Грубияна Черткова и своей Наглы, получивший только малую серебряную, и однопометник его — Удар Корша (м. сер. мед.). Очень хорош был Алмаз М. В. Столыпина, по-видимому им родственный. Инсарский выставил 5 недурных борзых от гагарин-ских, б. ч. уже бывших на предыдущей выставке; Филатов — 3-х, из которых лучшая, Зазноба, получила малую серебряную. Борзые (6) К. В. Шиловского от своих, болдаревских и вальцовских, не подвергавшиеся экспертизе, ничего особенного не представляли; то же собаки (5) С. М. Шульгина (жихаревских и болдаревских кровей), кроме Победки (м. сер. мед.). Назимовская порода имела представителей в лице трех очень грубых собак Е. Е. Чевакинско-го. Улучшенных кареевских выставил Г. Н. Вельяминов, получивший за свору из 3 борзых большую серебряную; но в них кроме крови Злодейки Ратаева имелась еще кровь Поражая Перепелкина (см. выше) и Хищного Воейкова. Завладай Максимова, получивший только бронзовую медаль, замечателен тем, что, несмотря на короткие ноги вопрямь, на московских осенних садках 1890 года взял 1-й приз на резвость. Он происходил от чебышовских (мешаных) Наяна и Неги. Из новых собак замечательны были борзые П. И. Шехавцова, однопометники от своих (кажется, с примесью озеровских или вальцовских) собак. Лучший из них — чубаро-пегий Сокол получил большую серебряную медаль (два остальных — малую, а вся свора — большую) и был куплен И. Т. Долинским за 1 ООО рублей.
Следующая (XVII) выставка опять была бедна количественно (60 экз.) и качественно. Первенствовали болдаревские собаки (7), из которых Пылай и Атаман получили большие серебряные. Пылай, по 1-й осени, 18 верш., от Подара (б. сер. мед. на XII выст.) и Завлады (от Алмаза — б. сер. на XI и Колпицы — б. сер. мед. на XII выставке). Очень хороши были родственные болдарев-ским борзые Шиловского, особенно Блистай и Лукавка Е. П. Шиловской (от болдаревских кобелей и вальцовских сук), проданные Медведеву за 1500 руб. Удар Корша (см. XVI выст.) удостоен был, как один из лучших кобелей, большой серебряной медали. Из собак новых экспонентов заслуживали внимания борзые (3) Курдюмова, О. И. Улагай (4, в особенности серо-пегая Бурка) и А. П. Кожевникова от Азиата Жихарева и своих собак; лучший из них —Лиходей, с плохими передними ногами и закркжова-тым правилом, получил малую серебряную медаль.
На XVIII выставке из мешаных мачевариано-ермоловских борзых были выставлены только 2 суки П. Н. Коротневым и 5 собак
Г. Н. Коротневым; из них лучшею оказалась сука первого — Ханка, имевшая, однако, сильно распахнутую грудь, т. е. широкий постанов передних ног, что служит плохою приметою для резвости. Б. Инсарский показал 5 собак, прямых потомков гагаринских; П. В. Ладыженский— Удачу (мал. сер. мед.), внучку Удава, очень ладную, но грубоголовую суку неприятного окраса и с грубой псовиной. Борзые В. А. Гевлич — от филатовских и соловцовских собак — очень грубые, но крепко сложенные, имели уже подмесь кареевских. Большинство, именно борзые (10) князя Б. А. Василь-чикова, Вердеревского (8), Г. И. Кристи (5) и князя Д. Б. Голицына, происходили от улучшенных кареевских. Из собак первого экспонента выделялись Похвал и Лиходей (бол. сер. медали). Более типичны были голицынские Награждай и Победа, внуки чебышов-ского Награждая и ратаевской Злодейки, от которой ими унаследован грязный окрас и прилобь (у Победы); обе собаки получили бол. сер. медали. Г. И. Кристи выставил очень хороших сук — Злоимку и Злодейку (от кареевского Атамана), удостоенных той же награды. Серо-пегие собаки Д. Н. Вердеревского, хотя значились чистокровными (?) кареевскими, не представляли ничего особенного.
Некоторое оживление в мире псовых охотников, обескураженных упадком выставок и победами английских борзых на испытаниях резвости, было внесено выставкой Киевского отдела Императорского общества охоты, на которой приняли участие многие южные охотники, не участвовавшие на московских выставках. Особенно замечательного, однако, ничего не было, и на ней преобладали борзые от озеровских, вальцовских и болдаревских собак, родственные между собою. Наибольший интерес представляла охота князя Д. И. Ширинского-Шихматова, состоявшая из 16 собак, б. ч. от озеровских сук и кобелей; лучшим был Поражай (от озеровской Стрелки и Поражая И. Т. (?) Долинского), получивший малую сер. медаль отдела и большую от Общества любителей породистых собак; недурны были суки Слава и Сударка (от тех же собак) и Искра (от Голубки Озерова и Лебедя В. П. Глебова), которым также присуждены малые серебряные. Из борзых С. М, Канивальского, б. ч. мешаных озеровских с ермоловскими, лучшею была Голубка,(м. сер. мед.), а из 5 собак М. А. Цветкова, мешаных озеровских, ермоловских и чебышовских, выделялась Сайга от Любима Чебышова и Сайги Озерова. Н. А. Болдарев показал 3 собак, из которых Алмаз и Поражай (м. сер. медали) уже были на московских выставках. Только собаки (7) барона Штейн-геля принадлежали к улучшенной кареевской породе. Из них 5 получили малые сер. медали, но наибольшего внимания заслуживала Раскида с очень красивою головою. Сам С. С. Кареев выставил только весьма интересную помесь арабского слюги с псовой — очень изящного кобеля Белъбая в типе старинных английских, т. е. хортого, который был приобретен г. Цветковым. Продолжал ли последний опыты дальнейшего скрещивания — неизвестно. Несомненно, что небольшая подмесь слюги к псовым была бы им очень полезна.
Следующая (XIX) московская очер. выставка была крайне бедна (40 борзых) и представляла мало интереса. Кроме уже известных Награждая Голицына, Удара Корша и Пылая Болдарева выдавались вальцовская Стрелка (или Вьюга) от Раскиды И. И. Соколова и Кайсака Немировского и в особенности борзые В. П. Глебова, из которых особенного внимания заслуживала черно-пегая Стрелка (б. сер. мед.), очень ладная сука от Сударки князя Гагарина и Атамана Кареева, а также Удав и Чернец (м. сер. медали) от протасьевского Кидая и своей Злодейки. Из собак неизвестных кровей обращал внимание серо-пегий Завладай П. И. Георгиевского от Удара своих (?) собак и Отрады Курносо-ва, замечательно хорошо одетый кобель, с отличною головою и правильными ушами, заслуживавший большой, а не малой серебряной медали.
Последние московские очередные выставки ясно доказали, что при неопределенности правил экспертизы, различии во взглядах на породу у ежегодно менявшихся судей и наличности других неблагоприятных для псовой охоты условий они падают и количественно и качественно. Выставленная на XX выставке большая охота Окромчеделова, в подражание прежним охотам В. И, Лихачева и графа А. Д. Шереметева, хотя и привлекала внимание праздных зевак, но не рредставляла ничего выдающегося. Из 30 борзых, б. ч. кареевских, ни одна не получила высокой награды. Лучшими были собаки е. и. в. великого князя Николая Николаевича (4), в особенности Дорогой (от озеровской Лебедки и Атамана Глебова) и очень ладная, но плохо одетая сука Пройда (от Поражая своих собак и Дружбы Дурасова), награжденные, однако, только малыми серебряными. Из молодых псовых охотников хорошие экземпляры представили князь Б. А. Васильчиков (4-х от болда-ревского Блистая, 5 от кареевского Хана и своих сук, полукровных кареевских) и граф Д. С Шереметев (4).
В том же (1894) году открылась весною 3-я киевская очередная выставка, на которой было 37 борзых, б. ч. от озеровских, вальцовских и глебовских собак, заключавших главным (?) образом кровь ермоловских. К таковым принадлежали борзые главного экспонента князя Д. И. Ширинского-Шихматова (13), Критского и Каширенинова. Родственны им собаки графа Нирода с подмесью кареевских. Из первых наивысшую награду (большую сер. медаль и золотой жетон Импер. общ, охоты) получил серо-пегий Поражай, очень ладный, но острощипый кобель (от Лебедя Глебова и озеровской Кары), однопометница его Сайга (м. с м.), Поспех, превосходный кобель с не совсем правильными передними ногами, от Атамана Глебова и Колпицы Вальцова (мал. серебр. медаль отдела и от Общества любителей породистых собак) и Алмазна от Лебедя Глебова и Голубки Николаева (м. с. м.). Из двух собак Критского, лучшая — Язва от озеровской суки (м. с. м); очень хорош также Крылат (м. с. м.) Каширенинова, тоже от озеровской суки. Швырок Нирода был уже на XVI очер. выставке, на которой тоже получил мал. серебряную. Затем следует упомянуть о 3 собаках барона Штейнгеля, из которых Тиран (собак Сатиной) награжден малой серебряною. Три борзые Канивальского от собак Новикова, отличавшиеся круглолобостью, экспертизе не подвергались.
На XXI выставке (40 псовых и 6 хортых) улучшенные кареев-ские преобладали над ермолово-болдаревскими и им родственными. К таковым принадлежали 5 собак князя И. С. Мещерского от кобеля князя Д. Б. Голицына Награждая и своей суки, 3 борзые А. Е. Звегинцева, 2 — графа Н. А. Адлерберга, 3 — Бек-Мармар-чева, сука В. Д. Дмитриева и 2 суки Г. И. Кристи. Лучшими оказались последние, именно Отрада (от Славы Хомяковского и Озорного Чебышова) и Злодейка, уже получившая б. сер. медаль на XVIII выставке. Наибольший интерес представляли собаки молодых охотников, впервые дебютировавших на выставках: П. Н. Бе-лоусова и А. А. Дурново, последние не столько ладами, сколько резвостью, обнаруженною на петербургских садках, где они достойно поддержали падавшую славу псовых. П. Н. Белоусов выставил 3 собак разного происхождения, именно известную по тамбовской выставке (см. выше) Язву, переименованную в Красотку, Кару от Славы Н. П. Ермолова и Сердечного — кругом ермоловских собак и Диену от Задачи Дурасова и Озорного Н. А. Болдарева. Последняя сука — лучшая представительница псовых на выставках 90-х годов, с замечательно красивыми головой, ногами, правильным? ушами и очень ладная— получила большую серебряную медаль и приз Русского охотничьего клуба. Из 5 очень однотипных собак А. А. Дурново от Украсы собак Чевакинского (назимовских) и кобелей императорской охоты (по-лукареевских?) лучшие — Нагла и Красотка, получившие малые серебряные. В 1894 году Красотка взяла великокняжеский приз, а Нагла мачевариановский. Обе суки много теряли оттого, что были непсовисты, имели желтые глаза и розовый вощок. П. Ф. Филатов показал 3-х ничем не замечательных собак, из которых 2 суки были уже не вполне чистокровными. Некоторый интерес представлял
Замечай князя Мещерского от псовой суки и хортого куцего кобеля собак Мосолова, тоже мешаных.
Наконец, последняя, XXII выставка была самая бедная (39, из них 5 английских). На ней снова преобладали ермолово-болдарев-ские и близкие к ним борзые. Кареевские были представлены лишь С С Кареевым и, конечно, для продажи; они были совсем заурядными борзыми. Особенно выдавались П. Н. Белоусова Дивна и Сердечный (от Лебедя своих собак и Хвалы Раевского) типа старинных густопсовых борзых, получивший большую серебряную, затем сука А. К. Болдарева — Лиходка (от Чародея И. И. Соколова и Удачи охоты великого князя-Николая Николаевича), которой присудили большую серебряную и приз Русского охотничьего клуба, Летка (от Надмена Вальцова и Молвы Н. А. Болдарева) и Удача (от Кидая Н. А. Болдарева и Плутовки В. Н. Бибикова), удостоенные малых серебр. медалей. Лучше двух последних были Милка А. А. Евсеева (от почти кровных (?) ермоловских) и Сударка Д. Д. Осиповского (от Поражая Болдарева и Пагубы своих собак).
Из этого поверхностного обзора наших выставок мы видим, что на первых семи выставках преобладали качественно и количественно кареевские псовые; но уже с 1879 года, когда появились несомненные признаки вырождения породы вследствие кровосмешения (Карай Картавцева), появляются улучшенные кареевские от Нещады, Хищного и главным образом Злодейки. Борзые князя Гагарина, показанные на V выставке и садках на волка, сильно уронили славу кареевских, которая еще более померкла с вскоре затем последовавшей продажей всей кареевской охоты В. И. Лихачеву. На VII выставке вместе с гагаринскими, т. е. мачевариано-нази-мовскими псовыми, уже улучшенными подмесью крови той же Злодейки, показывается чистокровный мачевариановский Убей; на той же выставке мы видели и последних чистокровных березни-ковских. В следующем году родственные мачевариановским ермо-ловские и филатовские собаки выдаются красотою форм, много проигрывая мелким ростом. Поэтому уже с IX выставки Ермолов и его поклонники начинают подмешивать к своим собакам кровь гагаринских, протасьевских и других псовых, которые действительно прибавили первым росту, но ухудшили внешность. Тогда же псовые охотники познакомились с дурасовскими псовыми, содержавшими старинную кровь назарьевских и ступишинских собак. Старый тип кареевских псовых до последнего времени всего лучше сохранялся С. А. Барышниковым, показавшим на X и XI выставках своего Лебедя; кареевские с прибавлением Воли Сипягина (на-4—1024 зимовской) велись у князя Д. Б. Голицына и В. Н. Чебышова, а кровь мачевариановских в наибольшей чистоте хранилась в фила-товских собаках. С XII выставки начинается преобладание борзых очень смешанного происхождения, и в следующем году московские очередные выставки достигают апогея своего развития. Из этих мешаных собак постепенно выделяются борзые Н. А. Болдарева, Д. П. Вальцова, П. Н. Коротнева, заключавшие в себе кровь мачевариановских, протасьевских и ермоловских. Со смертью Ермолова выставки приходят в упадок, теряют большую часть своего интереса и снова начинается преобладание мешаных кареевских, за исключением последних выставок, где по числу и достоинству первенствовали болдаревские, мешаные протасьевские и ермоловские, так же как и на киевских, где большинство собак происходили от озеровских.
В результате этих взаимоскрещиваний все разновидности псовых утратили свою типичность, обезличились; исчезли последние густопсовые и чистопсовые, и получилась новая порода со смешанными признаками — современная псовая, мало похожая на старинную псовую, как понимали ее старые охотники, отличавшие густопсовых от обыкновенных псовых. Теперь самыми чистокровными псовыми (но не самыми ладными) едва ли не при <дется> считать челищевских, филатовских, назимовских (?) и мажаровских, сохранившихся без подмесей у многих полевых охотников.
Главными причинами упадка московских выставок надо считать бездеятельность псового отдела, отсутствие правил экспертизы, а следовательно, выработанного типа — идеала русской борзой; неимение студбука и возрастающую путаницу и неверности в родословных; затем ничтожность поощрений, в виде покупаемых за деньги медалей, и отсутствие денежных призов, как на конных выставках. Немалое значение имел также все более и более возрастающий антагонизм между выставочными и полевыми охотниками, предъявлявшими совершенно различные требования к собакам: первые слишком большое значение придавали голове и вообще красоте собак; последние чересчур много внимания обращали на ноги и рабочие лады. Наконец, псовый отдел императорского общества до последнего времени не принимал никаких мер к привлечению экспонентов и не прислушивался к требованиям съездов псовых охотников, стремившихся упорядочить выставки. Трудно поверить, что за 20 с лишком лет общество не могло выработать и утвердить приметы русской борзой, т. е. с чего следовало начать, и не успело составить правильный студбук, имеющийся не только у Общества любителей породистых собак, но даже у недавно основанного Финляндского общества!
В конце концов московские выставки сделались достоянием небольшого кружка псовых охотников, приводивших собак главным образом с целью продажи. Но и этот небольшой кружок разделился на два враждебных лагеря — приверженцев улучшенных^) мачевариано-ермоловских собак и почитателей улучшенной кареевской породы, причем борьба между ними велась с переменным счастием. Только очень недавно некоторые благоразумные охотники, без предрассудков и антипатий, догадались скрещивать ермоловских псовых с кареевскими, что следовало бы сделать лет 12—15 назад, когда и та и другая породы были кровными и не представляли из себя винегретов различных разновидностей.
Главная ошибка большинства псовых охотников заключалась в том, что они не довольствовались лишь освежением крови новыми производителями, а чуть ли не каждый из них старался вывести собственную породу скрещиванием нескольких, совершенно отличных между собою разновидностей. У очень многих борзые имеют предками представителей 5—6 и даже более отродий, и вряд ли найдутся охотники, которые за последние 10 лет вели породу без подмеси посторонней крови. По-видимому, никому не было известно правило овцеводов, по которому кровь другой породы должна быть приливаема к породе вырождающейся или требующей известных изменений только в сильно разбавленном виде, то есть что противно правилам зоотехнии, и нельзя скрещивать две, хотя бы родственные, разновидности и от этой помеси вести породу. Следует полученных вымесков скрещивать опять с коренной, основной расой и только детей их пускать в завод как производителей.
На это можно возразить, что для таких правильных экспериментов надо иметь немалое количество собак, затем, что псовые охотники имели дело, собственно говоря, с одной породой борзых, только различных владельцев. Первое замечание совершенно основательно, что же касается второго, то нельзя не принять во внимание, что к началу выставок во многих разновидностях обыкновенных псовых еще очень сказывалась недавняя подмесь хортых, крымок, чистопсовых, густопсовых и даже курляндских псовых; признаки одной из этих пород и составляли как бы отличительные черты той или другой фамильной разновидности, или вариэтета, обыкновенно неправильно называемого «породой» такого-то охотника. Между тем в зоотехнии очень хорошо известен тот факт, что при скрещивании двух даже очень близких разновидностей, имеющих смешанное происхождение, получает как бы импульс атавизм — возвращение к предкам, и в результате оказываются животные таких ладов и мастей, которые уже давно не замечались ни в той, ни в другой разновидности. Получаются т. н. сюрпризы, обыкновенно приводящие в смущение неопытных заводчиков и заставляющие их совершенно напрасно сомневаться в чистопородности чужого животного, избранного для скрещивания с ними. Очевидно, эта разнотипность однопометников, по крайней мере на первых порах, должна сказываться еще сильнее, когда в породу в скором времени снова впускалась посторонняя кровь.
Кроме того, большинство наших собаководов в своем стремлении к улучшению или освежению породы делали еще другую, обычную, впрочем, в небольших заводах ошибку. Именно: они приобретали большею частью производителя, т. е. кобеля, или даже только пользовались его услугами и вязали его со всеми или почти со всеми своими суками, не выждав результатов первого скрещивания. Между тем было бы гораздо менее риска испортить всю породу, приобретая для завода не чужого кобеля, а суку, но, как видно из каталогов выставки, это случалось весьма редко по той причине, что хорошие суки оставляются заводчиками на племя, а не продаются. Едва ли не единственным и притом блестящим исключением является известная ратаевская Злодейка, дети которой обновили кровь кареевских собак. Вопреки мнению коннозаводчиков, мы полагаем, что влияние матери на приплод гораздо сильнее влияния отца, которое может быть только быстрее, и совершенно понимаем, почему русские промышленники и инородцы при выборе щенков обращают внимание только на охотничьи качества сук, вовсе не заботясь о наружных и внутренних достоинствах кобелей.
Кроме этих неблагоприятных условий не столько для выставок, сколько для собаководства и вывода нескольких определенных типов русских борзых, пригодных для различных местностей и климатов, были и менее важные причины, препятствовавшие достижению последней и главной цели.
Прежде всего выставки и возрождение псовой охоты вызвали открытие настоящих заводов борзых с исключительною целью их продажи, причем не обращалось внимания на полевые качества собак, с которыми почти не охотились. Эта торговля, продолжающаяся и теперь, поддерживаемая усиленным спросом русских борзых за границу, была причиною порчи многих очень хороших собак, с каждым поколением утрачивавших резвость, злобность, наконец, жадность и скакавших по охотке. Между тем нам нужна не комнатная псовая борзая величественного вида, как иностранцам, а резвая и злобная собака, которою можно было бы травить и русака, и красного зверя. Много пользы этим заводчикам и немало вреда псовой охоте принесли эфемерные показные охотники, промелькнувшие подобно метеорам. Они накупали по дорогой цене плохих и отличных собак, мешали их зря и потом, через 3—4 года, перепортив их. уничтожали свою охоту, к которой не имели никакой склонности. Таким образом исчезло бесследно немало первоклассных кобелей и сук, которые в руках настоящих охотников принесли бы много пользы и могли бы способствовать улучшению русских борзых.
Между тем как выставочные охотники обращали слишком много внимания на внешность собаки, притом главным образом на рост, красоту головы и псовины, другие — собственно полевые охотники — искали грубых и прочных рабочих ладов и главным образом злобности. Это различие требований привело, однако, к одному результату — почти всеобщей утрате броска и лихой резвости, утрате, доказанной в последнее время состязаниями псовых с английскими. Вообще антагонизм между выставочными и полевыми охотниками, изредка принимавшими участие в садках, сильно затормозил правильное улучшение типа современной псовой; первые боялись испортить головы, вторые опасались за утрату силы и злобности своих собак подмесью выставочных медальеров. Вот почему такие рабочие собаки, как челищевские, мажаровские, назимовские, в настоящее время могут считаться самыми кровными, вернее имеющими наиболее отдаленную примесь чужой крови. Очень мало существует на Руси полевых охотников, избегающих выставок и садок, но имеющих собак замечательных по ладам, резвости и злобности.
Но как рабочая борзая грубых форм, так и элегантная выставочная псовая все-таки принадлежат к одной расе — современной псовой, отличной от прежних русских пород. 30—50 лёт назад у нас их было еще целых четыре: обыкновенная псовая, густопсовая, чистопсовая и курляндская псовая, остатки которых, кроме последней, мы видели на московских очередных выставках. Всего лучше сохранилась первая порода с более или менее заметною подмесью восточной борзой. Потребность в сильной собаке чувствовалась уже нашими отцами и дедами в этих смешениях: густопсовые отживали свой век, курляндская псовая становилась достоянием предания. Центр псовой охоты мало-помалу перемещался из примосков-ных губерний в черноземные, островная охота с гончими постепенно заменялась охотою внаездку, требовавшей от собак выносливости и продолжительной скачки. Мечта о возрождении густопсовой так и осталась мечтою некоторых старых охотников, не сумевших сохранить ее, и реставрация излишней породы не могла встретить сочувствия у настоящих охотников.
Главная роль в выработке нового типа русской псовой бесспорно принадлежала мачевариано-ермоловским собакам, которые имели только незначительные, легко поправимые недостатки — малый рост, короткую псовину и укороченное правило. Неудивительно поэтому, что большая часть современных борзых заключает большую или меньшую примесь этой крови, которая у многих исправила порочные лады: коровьи задние ноги, кривые и чрезмерно длинные хвосты; узкая грудь, плоские ребра стали встречаться реже; собаки сделались в общем как будто однообразнее, так что даже знатоки стали затрудняться определением их происхождения на глаз. Тем не менее как результат скрещивания многих разновидностей до сих пор в одном помете встречаются разнокалиберные щенки, что доказывает еще не вполне установившийся тип. Было бы и странно, чтобы он мог вполне определиться при таком разнообразии требований и вкусов и отсутствии руководящей нити в виде сообща выработанного идеала современной псовой. Понятно поэтому, что последняя имеет еще много недостатков, подлежащих исправлению: распущенное ухо, хотя встречается редко, но нынешние псовые не так псовисты, они почти утратили волнистость псовины и характерные отчесы и муфту, сделались чрезмерно бочковаты и прямостепы, редко имея низко спущенные ребра и правильный верх, голени у них слишком прямы, пазанки чрезмерно длинны и недостаточно эластичны.
Между тем как исчезновение резвых накоротке густопсовых и курляндских псовых совершенно понятно и естественно, трудно объяснить себе причину вымирания чистопсовых. Правда, порода эта не могла еще называться вполне определенною и установившеюся и до сих пор не решено окончательно, произошла ли она от смешения псовой с английской или с восточной, или были две разновидности чистопсовых. Такие собаки, как Злорад кн. Черкасского могли иметь предком только англичанина, а не вислоушку. Не подлежит никакому сомнению, что в степи чистопсовая борзая пригоднее псовой, а что она лучше вымеска псовой с плохой висло-ушкой, об этом нечего и говорить. Хороших английских борзых доставать теперь очень легко, да они и ладами и ушами более подходят к псовой, чем восточные борзые. Говорят, что псовая при скрещивании с английской утрачивает бросок, но, во-первых, это еще не доказанное предположение, а во-вторых, бросок при степной ловле не имеет большого значения и обыкновенно утрачивается сам собою. Можно только удивляться, что до сих пор почти никто из псовых охотников (кроме, быть может, гг. Апушкина и Мосолова) не занялся правильным, методичным скрещиванием английских с псовыми.
Переходим теперь к описанию как прежних, так и существующих пород русских борзых.
Выше мы видели, каким путем татарские kurtzi Герберштейна с пушистыми ушами и хвостом, скрещиваемые с легкою породою волкообразных северных собак, превращались в остроухих борзых с длинною псовиною. Подобное образование породы наблюдается и в настоящее время на Кубани, где также сталкиваются северные остроухие дворняжки с вислоухими восточными борзыми; только дворняжки эти, как более южные, не имеют длинной псовины, и кубанские борзые могут быть названы чистопсовыми. Что русские борзые XVII столетия все имели длинную псовину, доказывается сочинением фон Лессина (1635); хотя последний не упоминает об ушах, но из слов Левшина (начало XIX стол.) и Хомякова (в сороковых годах) очевидно, что большинство псовых еще имело сто-

ячие или полустоячие уши. В XVII веке, несомненно, и не было других пород русских борзых, кроме описанной фон Лессиным, так как влияние хартов, приведенных поляками в Смутные времена33, не могло быть значительным и эти харты в смешении с псовыми не могли успеть выделиться в новую самостоятельную породу: образовавшиеся чистопсовые помеси с короткою псовиною, с подшерстком и уборною псовиною, обновляемые только псовыми, неминуемо возвращались через несколько поколений к прежнему коренному типу. В течение всего XVII столетия порода псовых блюлась, по-видимому, в чистоте и совершенствовалась главным образом в подмосковных областях, где сосредоточивались вотчины бояр и служивых людей.
В следующем столетии, когда значительная часть казенных земель на юге и юго-востоке была роздана заслуженным и чиновным дворянам, район псовой охоты значительно расширяется, вместе с тем начинаются частые скрещивания с польскими хартами, английскими и в особенности брудастыми борзыми, обратившими на себя внимание русских охотников своею злобностью. Результатом этого увлечения брудастыми была новая, промежуточная порода — курляндская псовая, с более благообразною наружностью. Тогдашние псовые охотники — русские бары и курляндские бароны — были недовольны резвостью брудастых и их внешностью и стали скрещивать их с псовыми, которые отняли у них усы и бороду, оставив злобность и силу, прибавили им резвости, в особенности пруткости, т. е. быстроты накоротке, передав также характерный для псовой бросок. Письма Салтыкова и Волынского и знаменитый волкодав (Зверь) князя Барятинского доказывают нам это увлечение брудастыми. Сам Зверь был уже продуктом смешения брудастого ирландского кобеля с псовой сукой.
Однако курляндская псовая, по-видимому, никогда не имела широкого распространения и составляла редкость даже в больших охотах; она была слишком неуклюжа, груба и неэлегантна в сравнении с красавицей псовой. Но прыткость и в особенности злобность ее были слишком заманчивы для охотников, а потому ими в непродолжительном времени была выведена новая порода псовых, отличавшаяся очень длинною, густою и волнистою, даже завитою псовиной, узкогрудых и низкопередых, с удлиненными задними ногами и сильно развитым верхом, красотою и прыткостью даже превосходивших старинную расу. Надо полагать, что густопсовая была создана в больших подмосковных охотах в конце прошлого века, так как о ней впервые упоминается только у Левшина. В его время это была уже, несомненно, если не преобладающая, то самая ценная порода. Губин говорит, что в начале этого столетия псовые (т. е. густопсовые) считались еще большою редкостью и продавались очень дорогою ценою в Польшу (см. выше).
Это первенствующее значение густопсовых продолжалось не более полустолетия. В течение этого времени они совершенствовались в красоте и длине псовины, пруткости, броске и злобности. Но чрезмерное увлечение псовиною и пруткостью, а главным образом островная езда и постоянная травля из-под гончих на коротких перемычках, ведение породы в близком родстве при сортировке не по ладам, а по резвости имели результатом быстрое вырождение. Густопсовая была всегда борзою крупных бар и велась, стало быть, псарями почти без наблюдения и контроля владельца охоты. Явилась чрезмерная лещеватость, уродливая остростепость, порочный зад и слабосилие. Такие собаки, конечно, совсем непригодны для охоты внаездку в открытых местностях. Псовые охотники средних черноземных губерний не могли быть довольны «короткодухими осетрами», «чехонными псовыми» и были вынуждены необходимостью мешать их с горскими, крымскими и хортыми борзыми. Успехи Сердечного, а позднее Отрадки на москов* ских садках были причиною того, что к 50-м годам почти все русские борзые — и псовые, и густопсовые, курляндские псовые — перемешались с вислоухими восточными, образовав новую разновидность, вернее две разновидности, — чистопсовых борзых, названных так в отличие от прежних псовых, и густопсовых. Самое название «чистопсовые» встречается в печати только с сороковых годов. Эти чистопсовые не составляли, по-видимому, никогда
Рис. 10. Современная псовая.
Лебедь императорской охоты («Охотничий календарь»)
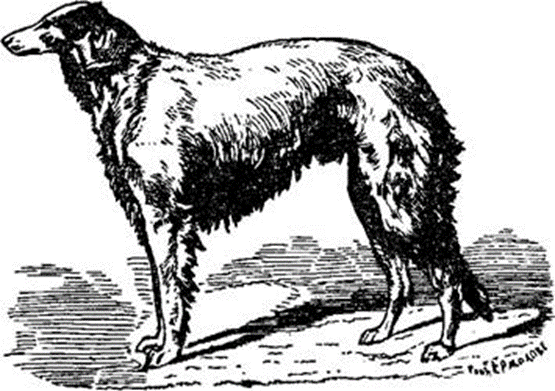
вполне определенной самостоятельной породы, так как имели смешанные и непостоянные признаки, приближаясь то к хортым, то к восточным, а всего чаще к псовым борзым, которыми постепенно и поглощались, мало-помалу утрачивая короткую псовину и распущенное ухо. Вместе с псовыми и остатками густопсовых эти разновидности чистопсовых образовали современную псовую, уже несколько отличную от прежней псовой конца прошлого и начала нынешнего столетия.
Таким образом, из 3 или 4 постепенно образовавшихся рас русских псовых борзых в конце концов выделилась одна порода — современная псовая, с довольно еще смешанными и неопределенными наружными признаками и внутренними качествами. Для того чтобы вполне выяснить и установить эти признаки, составить себе идеал псовой борзой, необходимо предварительно ознакомиться со всеми, хотя бы исчезнувшими, расами, как они описываются старинными и современными охотничьими писателями, начиная с фон Лессина и кончая Губиным.
Вот что говорит фон Лессин о статях борзых в св
оем «Регуле, принадлежащем до псовой охоты» (1635):
«Вначале голова сухая и продлинноватая, без перелома. Щипец ту же длину имеет, без подуздины. Зазор (глаза) навыкате. Степь или наклон — облая, о соколке (груди) не описую… Ноги передние прямые без поползновения, также и задние. Правило длинное, в серпе, псовина и лисы вподобие вихров. Псовина длинная висящая, какая бы шерсть не была, наподобие кудели. Ноги передние вывернуты лопатки назад. Ребра ниже щиколоток (?). Ногти, как у передних, так и задних ног, короткие и крутые, чтобы так как башмаком стучать должны. Ноги, как передние, так и задние, сухие. О степи не описываю — облая или шатровая, а доказываю только о ребрах и о черных мясах — чтобы черные мяса крутые, отвислые вподрез (?). У кобеля подборы (перепонка под пахом) тонкие и натуге, притом не отвислые. У сучки черные мяса лучше продлинноваты(е), мочи (помочи — то же, что подборы) крепкие, хотя несколько помочи и отвислые, да притом же были и крепки. Мышки бы (у суки) круглые и крутые, соколок был бы острый и пригнулся бы несколько книзу. У кобеля продлинноватые мышки*, высокие и крепкие, а соколок, хотя и остр, только надлежит (ему) быть кверху или прямо. Вощечку быть крепкому, как сзади, так и впереди. Ширину между крестцов — чтобы четыре пальца свободно укладывались. Ребра низкие, свислые, притом же плотные. Кобелю должно наперед упасть, а суке должно быть в колодке».
Описание борзых в книге Г. Б. «Псовый охотник» (1785), перепечатанное затем во 2-м издании (1791) «Совершенного егеря», относится, очевидно, к хортой борзой**.
«Борзых резвых и цепких узнать по статям, а именно: голова сухая, длинноватая и клинчатая; щипец длинный и тонкий, глаза большие и хорошие, ноги сухие и жиловатые, в пазанках сжатые и узковатые, не лаписты и разноперсты, но чтобы утыкала (ногтями) в землю; ребра долгие, плотные и ниже локотков и были бы бочковатые; задние ноги потянулись, черные мяса велики, толсты и крепки; правило серповатое и в себе бы было свободно,
* Мышками фон Лессин называет «выше от колена до степи», вероятно, место от локотков до загривка.
** Это видно из предисловия, в котором Г. Б. (не Григории ли Барятинский, обладатель Зверя?) говорит, что его труд — перевод с польской (рукописной) книги, а также из самого описания.
широкая в груди и локотках, крепкого тела, не узка и не кругла, сверху была бы широка, не переляка и не очень долга; а кобель что круче и короче, то красивее. Суке борзой должно быть статной и широкой; хотя которая и крутая, только бы в себе была широка, хороша и не переляка, крепка, довольных черных мяс, головы сухой, острых глаз, щипца и шеи длинной, правило серповатое, не слабых ног и не лещеватых и узких ребр».
В начале этого столетия о борзых писал Левшин в своей «Книге для охотников» и позднее в «Всеобщем и полном домоводстве» (ч.ХП). Описания пород и статей борзых не отличаются у него точ-
Рис. П. Современная псовая. Коротай Мюра

костью. «Впрочем, ныне породные собаки редки, — говорит он, — ибо охотники сделались непостоянны и одной известной породы не держатся, а блюдут лучших сук с кобелями резвыми, хотя неизвестной породы; а оттого и выходят от собак само по себе резвых порода и дети негодны.
О статях борзых собак, поелику оных очень много (?) пород, определить трудно; ибо каждая порода имеет свою оценку, да и сами охотники не очень в том согласны между собой. Однако же вообще приметы красивой и резвой собаки состоят в том, что она должна иметь длинную, суховатую голову, тонкий щипец (носовую часть), не быть подузда… Далее, шея у нее должна быть длинная и гордая, степь, или хребет, длинный и широкий, особливо же у суки, ибо кобель не столько длинный считается красивейшим. От борзой собаки требуют, чтобы она была поджара и сухопара, но притом ребриста и широка в груди, противное чему означает собаку слабую. Сарновая кость, т. е. длинные последние ребра считают за признак резвой и сильной в полях собаки. Правило должна иметь она длинное с густою псовиною, прямо висящее и кверху в кольцо загнутое. Ноги… сухие, не мясистые, прямые, чтобы концы оных не поползли, т. е. не выгнулись бы вперед; зацепы (лапы) малые, сжатые, как у зайца-русака, и чтобы опирались они на коготках».
Длинная и гордая шея, длинный и широкий хребет с широкою грудью и, наконец, правило, в кольцо загнутое, — признаки не псовых, а хортых и восточных или, во всяком случае, мешаных борзых. Это видно и из описания мастей борзых.
«Шерстьми борзые собаки бывают разные, как то: белые, полбвые, красные, муругие, то есть красные с черным щипцом и черными концами ног, черно-пегие, полово-пегие, красно-пегие, серо-пегие; бурматно- и чубаро-пегие, серые и чубарые, когда они полосаты и в полосах находится больше серого и желтого».
Далее: «Сука, имеющая кобелиные стати, считается красивою и резвою. Что надлежит до ушей, то оные у псовых собак должны быть подняты вверх, а у хортых обвислые…»
Почти то же, в сущности, говорит Левшин в своем «Всеобщем и полном домоводстве». Упомянув о четырех главных русских породах (густопсовых, псовых, курляндских и хортых борзых), он говорит далее: «К складным, или красивым, статям кобеля борзого потребно, чтобы имел он голову чистую с длинным щипцом, огнистыми и ясными глазами и бодрыми ушами, длинный скамьистый стан, однако ж без переслежины; правило длинное, прямо висящее, или хотя кольцом на конце вверх загнувшееся, но не свислое в сторону; ноги сухие, жилистые, и персты у оных сжатые, как бы на ногтях стоящие или опирающиеся. Чем больше персты у собаки сходствуют к русачьим, признак ее резвости; когда же, говоря по-охотничьи, ступни у ней поползли, персты кривы и раздвинуты, значит собаку слабую. Сука борзая при всех вышесказанных статях должна иметь голову сухую и длинную; стан короткий красивее в кобеле, а у суки же должен быть длинен. Как у кобеля, так и суки борзой вислые уши составляют безобразие. Должно, чтобы только концы оных загибались вниз, как бы были заломлены. Широкие ребра составляют признак сильной собаки; равным образом и широкая грудь. У которых собак задние ноги длиннее передних, таковые резвее скачут в гору, а у коих длиннее передние (!), таковым способнее ловить под гору. Имеющие же передние и задние ноги равной (?) меры бывают способны к ловле по плоскоместью. Редко удаются резвые собаки (!) из тех, у которых зад бывает выше переда в лопатках».
В начале сороковых годов писали о борзых только известные А. Д. Хомяков и Н. Реутт, но описания их не дают более точного понятия о породах русских борзых и их ладах. Хомяков* сравнивает английскую борзую с густопсовою и крымкою: «Английская борзая имеет свои добрые качества и может быть полезна в помеси, чтобы исправить недостатки наших доморощенных пород: она увертлива на угонках, довольно красива, отличается иногда полнотою черных мяс и тетивою, но почти никогда не имеет хороших ребр, до локотков, и редко имеет хорошую степь, т. е. совсем без переслежины; наконец, она далеко уступает пруткостью и даже красотою склада нашей густопсовой, а силою и крепостью ног с крымаком не может тянуться. Хажется, вообще можно сказать, что, имея дома такие типичные породы и с такими разнообразными достоинствами, как густопсовая с ее различными оттенками, клоками (которых мы также причисляем к густопсовой), бурда-стыми и прибурдями, и горскую с ее бесчисленным разнообразием, нам не для чего искать породы заграничной и что искусный охотник может составить помеси, соединяющие в себе всевозможные совершенства.
Точно так же, как граница римского или германо-романского мира определяется борзыми с острыми, назад откинутыми ушами, а мир ислама вислоухими, так и мир славянский может гордиться своей самобытной породой. Густопсовая принадлежит, очевидно, области леской: она уступает соперницам в силе, т. е. в дальней поскачке, но превосходит их своею почти баснословною пруткостью накоротке; она рослее, гораздо красивее, несравненно сильнее в боевой схватке, злобнее на дикого зверя и в то же время послушнее. Ее отличительный признак — прямое ухо, поднятое кверху, как будто настороже, т. е. по пословице: держи ухо востро».
Реутт ничего не говорит о статях и отличиях русских пород между собою, но делит русских борзых на густопсовых и чистопсовых. «Псовая значит борзая, в прилагательном относящееся собственно к собаке, во-вторых, служит сокращением псовистой. Таким образом, произнося псовистая или псовая борзая собака, мы определяем собственно тип русской борзой собаки; виды ее по количеству псовины определяются выражениями густопсовая и чистопсовая собака, подразумевая под этим борзых. Отличительный характер густопсовой собаки составляет длинная шерсть, или псовина, иногда в завитках по всему туловищу и оконечностям,
* Статья «Спорт», напечатанная сначала в «Москвитянине» 1874 года, № 2, затем в собрании сочинений и перепечатанная в «Ж. импер. общ. охоты»24, 1876, январь («Мнение Хомякова об охоте»).
кроме щипца, головы, ушей и лап. Чистопсовая собака не опушена псовиною по туловищу, но имеет ее на правиле висячею, на краях черных мяс, ног и по бокам шеи расположенную гребнем».
Первое подробное и обстоятельное описание русской борзой, именно густопсовой, дано А. С Вышеславцевым, писавшим позднее под псевдонимом Старого Охотника в «Журнале охоты» Мина 1862 г. (август, стр. 3—11, «Псовая собака»). Описание это было дополнено автором почти 20 лет спустя («Прир. и охота», 1880, VI), уже после выхода в свет «Записок псового охотника Симбирской губернии» П. М. Мачеварианова (1876), составивших эпоху в литературе псовой охоты. Мачеварианов принимает четыре вида (?) псовых собак — густопсовых, обыкновенных псовых, курляндских псовых и чистопсовых. Описания ладов этих пород, однако, весьма поверхностны и даже сбивчивы, так как главное отличие между ними оказывается в псовине:
1) «Густопсовая собака имеет длинную густую, шелковистую псовину в четверть, в крутых завитках, преимущественно на шее, над передними лопатками, на боках, на мочах, на черных мясах, на гачах и в особенности на правиле. Цвет псовины кровных густопсовых был, по рассказам стариннейших охотников, белый, черный (?), серый, черно-пегий и серо-пегий; но теперь встречаем муругих, красных, половых, черных с подпалинами, бурматных и всех означенных мастей пегих…
2) Обыкновенные псовые собаки имеют густую, волнистую псовину в вершок по всему корпусу; большие ровные отчесы, бакенбарды и длинную волнистую уборную псовину, особенно на правиле, доходящую до четверти и более… Псовина обыкновенных псовых собак бывает различных мастей…
3) Курляндские псовые имеют голову, уши, горло, передние ноги от локотков, задние от голенного мускула и правило атласисто-гладкие, как у левреток; а все прочее тело покрыто псовиною в самых мелких завитках, как у молодого кровного пуделя. Собаки эти были рослые, крепкие, злобные, сильные и необыкновенно резвые. Из них преимущественно выраживались лихие. Ныне их не только трудно иметь, но даже встретить, разве в Курляндии…
4) Чистопсовые, как должно предполагать, происходят от дальнего смешения псовых с хортыми или псовых с крымскими собаками. Псовина на них низкая, плотная, шелковистая и гладкая; отчесы густые, идущие по бокам шеи гребнем. Уборная псовина не волнистая, а прямая и редкая, как страусово перо… Цвет псовины курляндских и чистопсовых собак одинаков с прочими псовинами…»
Книга Мачеварианова вызвала оживленную полемику между псовыми охотниками и многие очень дельние замечания, а также более обстоятельные описания признаков старинных пород псовых. Лучшее описание густопсовой со всеми присущими ей достоинствами и недостатками, как сказано выше, дает А. С. Вышеславцев*, описывая борзых тридцатых годов своего брата — Сорвана и Милотку — идеалы красоты псовой собаки.
«Ростом Сорван был 17 вершков, Милотка была среднего роста с небольшим верхом; шерсть у обоих белая, шелковистая, волнистая, местами с завитками; глаза большие, темно-карие, ласковые; лапы в комке, с длинными пальцами. Уши лежали всегда концами вместе на затылке и даже скрещивались, когда собак брали на свору; лоб продолговатый, узкий и едва заметным уступом сходил на переносицу, образуя грациозный профиль греческих античных статуй- щипец до того сухой, что ясно были видны формы и направление костей и главные вены, и к носу несколько наклоненный книзу, без чего щипец походил бы на лисий или врл-чий. Шея, сравнительно с английскими собаками, была недлинная и поднималась от лопаток вверх не так прямо, что было у всех породистых псовых тогдашнего времени. Зарез (как у лошадей на затылке) меньше, чем у английских. Спина с крутым верхом, с сильными почками, но не такая широкая и полная, как у английских собак, и всегда пирогом, т. е. с заметными позвонками, несмотря на густую и длинную шерсть. Ребра отнюдь не бочковатые, как у английских и некоторых горских собак, но очень длинные, пониже локотков и с большим расстоянием одно от другого, что при короткости собаки почти уничтожалд пахи; достаточное же расстояние между ребрами как у собаки, так и у лошади дает животному возможность сильно сгибаться и разгибаться на скаку. Зад широкий и несколько свислый, что способствует заносить дальше под себя задние ноги; прямой крестец — плохая рекомендация для скаковой лошади и борзой собаки. Ноги, особенно задние, Сорван держит всегда, так сказать, под собою, а не за собою сзади; так же держат их олени, дикие козы, зайцы. Задние ноги несколько изогнуты, не совсем прямые, отчего они длиннее, так как изогнутая линия длиннее прямой; до лучковатых ног еще далеко; с прямыми задними ногами редко хорошо скачут и лошади и собаки. Мускулы на задних ногах (черные мяса) и плечах были длинны, но не выпуклы; у английских собак, напротив, они коротки и очень выпуклы; первое дает быстроту, второе — способность продолжительной скачки, что замечается у английской скаковой лошади. Грудь не шире ладони, так же как у волка и
* «Прир. и охота», 1880, стр. 114—117, июнь. «Идеалы псовых собак».
дикой козы, и если некоторые охотники ищут у борзых широкой груди и выпуклых мускулов, то очень ошибаются. Хвост (правило) был не серпом, но саблей, что, конечно, много грациознее, и недлинный, как у многих сырых собак, но не доходит до земли вершка на два по крайней мере… Эти стати и были, по свидетельству охотников семидесятых годов (моего деда, отца и других старых охотников) прошлого столетия, статями чистокровных псовых борзых. «Кобель должен умещаться в равностороннем четырехугольнике (квадрате)», — говорил один из наших известных старинных охотников (т. е. холка, концы цальцев передних ног и пятки задних должны составлять равносторонний четвероугольник, из которого выходит только часть шеи и голова); сука значительно длиннее; если она с некоторым верхом, то грациознее».
Как видно из описания, а также предыдущих статей того же автора, последний имел в виду исключительно густопсовую борзую. О псовых собаках вообще, как старинных, так и современных, писали кроме Вышеславцева очень многие охотники (Н. Че-лищев, Н. Д. Ступишин, С С Кареев, Н. П. Ермолов, Блохин, В. Озеров, Д. П. Вальцов и некоторые другие), но мнения этих охотничьих авторитетов будут приведены далее, в общем описании статей всех псовых, а теперь мы приведем почти дословно описания чистопсовых, псовых и курляндских псовых, даваемые П. М. Губиным в его замечательном «Руководстве ко псовой охоте» (1890), которое во всех отношениях надо поставить гораздо выше мачевариановских записок, хотя автор, увлекаясь полемикой, в свою очередь, впадает в крайности и противоречия. Так, например, Губин густопсовых вовсе не признает породою, и коренною русскою породою борзых, о чем было уже упомянуто выше, считает чистопсовую. Тем не менее его описания чистопсовой и курляндской псовой, можно сказать, единственные и притом весьма подробные и обстоятельные.
«О чистопсовых борзых собаках. Самою древнейшею и сообразною нашему климату породою русских борзых была порода собак кровная чистопсовая. Название же этой породы борзых образовалось, как я уже сказал, от слова «чистый пес», в смысле чистокровности, чистопородное™ и чистоты собаки по виду, т. е. элегантности, пропорциональности частей и необыкновенной красоте ладов ее. Вследствие чего старинные псовые охотники, убедившись при этом в изумительной резвости этих собак, необыкновенно дорожили ими и тщательно вели породу этих чистых псов, которая и сохранилась на Руси до наших времен под названием чистопсовых борзых.
Чистопсовую борзую собаку старинные знатоки, псовые охотники, сравнивали относительно кровности с кровною арабскою лошадью и поясняли это тем, что в пометах от кровных чистопсовых отца и матери дети-сюрпризы (как нынче называют) никогда не выраживаются, а я утверждаю, что и не выраживаются.
По виду чистопсовая кровная борзая должна быть красоты неописанной; чрезвычайно пропорционально сложенная, элегантная. Такая собака никогда не должна быть очень крутою и короткою, т. е. в комке, а скорее длинною, не исключая и кобелей. Кобель должен быть непременно с верхом, а сука — прямостепая и непременно с самой легкой напружиной, т. е. чтобы степь слегка была выгнута кверху вроде небольшого вершка, едва заметного у суки.
Голова чистопсовой борзой должна быть небольшая, правильная, чрезвычайно сухая, продолговатая, с пропорционально длинным правильным щипцом; с блестящими, темными или черными, всегда веселыми навыкате глазами.
Уши чистопсовой борзой должны быть маленькие, узкие и продолговатые и правильно поставленные: должны в спокойном состоянии собаки непременно лежать на затылке вместе, как бы соединяясь концами, и только в тревожном состоянии собака ставит их конем, а иногда бывает и с приподнятым ушком, словом, уши чистопсовой борзой должны быть непременно в откладе и с правильным их зарезом.
Ноги чистопсовой борзой должны быть сухие, костистые; Лапа русачья^ продолговатая; задние ноги потянулись, с правильным постановом их, т. е. не очень прямы и не очень лучковаты и зацепами утыкались бы в землю; задние пазанки средней величины; передние ноги должны быть прямы, как бы подобраны под собаку и стоять должны на коготках, как бы слегка суживаясь от локотков к земле в лапах, если смотреть на собаку спереди.
Грудь выпуклая, полная, так что соколок груди не образует в стоячем положении собаки по сторонам своим глубоких западин. Ширина груди должна быть пропорциональна ширине зада и вообще ширине собаки, которая, если смотреть сверху, должна казаться собакою широкою и длинною. По выражению старинных охотников, о чистопсовой борзой в книге под заглавием «Псовый охотник», издание 1728 (?) г., говорится так: «Не узка и не кругла, была бы сверху широка»*.
Шея чистопсовой борзой есть отличительный признак ее чисто
* Сравни описание ладов борзой к Г. Б. «Псовый охотник» 1785 г. Выше мы уже говорили, что существование издания 1728 года весьма сомнительно.
кровности и непременно должна быть длинная и конистая, как у кобелей, так и у сук.
Ребра бочковатые, но не особенно низкие и не высокие, во всяком случае, не выше локотков.
Подхват тонкий, хороший.
Правило чистопсовой борзой составляет исключительный признак чистокровности ее и поэтому непременно дожно быть в чистом серпе, всегда весело приподнятое в рыску и главное «в себе было бы свободно». Длина правила должна быть такой меры, что когда пропустить его между задних ног собаки и вывести из-под брюха сбоку наверх, то чтобы последний хвостовой позвонок мог прикрыть первый с того бока маклок; такой длины правило будет всегда пропорциональным росту собаки и всегда будет красиво; более короткое или более длинное правило для чистокровной чистопсовой борзой будет составлять уже недостаток, не говорящий в пользу ее чистокровности.
Плечи полные, мускулистые. Движение в локотках свободное. Соколок груди должен выдаваться из-за плеч вперед.
Черные мяса полные, хорошие.
Псовина чистопсовой борзой должна быть короткая, немного длиннее, чем у крымской борзой, но только необыкновенно мягкая, блестящая и в зимнее и осеннее время имеющая густой, пушистый подшерсток. Уборная псовина, привесь и отчесы не особенно редки и при этом неравномерно распределены, а именно: уборная псовина на гачах сравнительно очень длинная, достигает полутора-вершковой длины, волнистая или, вернее, вилая, с густым подшерстком у основания и красиво вниз висящая пушистыми шелковистыми прядями; на нижней стороне ребер и подхвате без заметного подшерстка, но достаточно густая, шелковистая, прямая, постепенно удлиняющаяся с половины ребер и пахов книзу, никогда не превышает внизу одновершковой длины; на шее кругом головы едва превышает полувершковую длину обыкновенной псовины чистопсовой борзой и лежит гладко, волнообразно; отчесы небольшие; привесь на правиле полувершковой длины, шелковистая, прямая и не очень густая, висящая с нижней стороны правила, тогда как верхняя часть правила покрыта короткою вилою псовиною; вследствие чего правило должно казаться тонким, постепенно утончающимся от прочного основания к концу; на передних же ногах с задней стороны шелковистая редкая привесь не превышает длины одного вершка. Псовина на голове, начиная от ушей и шеи, и на ногах спереди должна быть приблизительно длины мышиной шерсти, блестящая и атласисто-гладкая.
Настоящий окрас чистопсовой борзой: белый, половый всех теней, полово-пегий и муруго-пегий… Линька у чистопсовой борзой начинается с первых чисел мая и в течение двух месяцев оканчивается совершенно, так что к 1-му июля здоровая (т. е. не больная) собака должна окончательно перебраться, сбросив с себя всю старую псовину.
Рост чистопсовой борзой средний.
Характер вежливый, ласковый, веселый, смирный и настойчивый в полях.
Рыск веселый, передний и всегда на рысях.
Резвость чистопсовых борзых баснословная как накоротке, так и в полях; хотя в силе с горскими и крымскими они сравниться не могут, но тем не менее уходу русаку от чистокровных почти быть не может на том основании, что по причине их шеистости они очень поимисты и потому более двух-трех угонок русаку не дают никогда, а чаще ловят русаков без угонок. При этом очень зорки, азартны и злобны, но никогда не волкодавы, хотя травят волков и чистопсовыми борзыми, так же как травят их и крымскими» W
Судя по описанию ладов чистопсовой, надо полагать, что г. Губин имел в виду вполне установившуюся породу чистопсовых, происшедшую от скрещивания псовых с английскими борзыми старого типа, вероятно, еще в конце или средине прошлого столетия. Мы знаем из писем Салтыкова и Волынского, что в пятидесятых годах прошлого столетия английские борзые не составляли у нас редкости и очень уважались многими псовыми охотниками. Нечего и говорить, что теория чистокровности чистопсовых не выдерживает никакой критики.
«О псовых борзых собаках. Второю установившеюся веками породою русских борзых, но позднее(?) первой (т. е. позднее чистопсовой породы) следует считать породу кровных псовых собак.
Порода псовых собак образовалась от меси чистопсовых с кур-ляндскими борзыми собаками, и поэтому относительно кровности псовую борзую можно сравнить с кровным орловским рысаком, а псовая русская борзая выведена старинными знатоками — псовыми охотниками, не оставившими, к несчастию, потомству своих имен, но тем не менее с достоверностью можно утверждать, что порода псовых русских борзых в начале 1800 годов считалась еще большою редкостью, так как в те времена помещик Тамбовской губернии Шацкого уезда Павел Ермолаевич Мосолов, обладая настоящими псовыми борзыми, продавал их в Царство Польское по баснословно дорогой цене для того времени, а именно: по семи и десяти тысяч рублей на ассигнации за собаку… и что порода псовых борзых есть выведенная, то доказывается тем,, что в пометах от кровных псовых собак всегда и прежде выраживались сюрпризы; так, например, от кровных, в завитках, красавцев псовых отца и матери некоторые щенята выраживались голошерстными и наоборот…
По виду кровная псовая борзая должна быть громадна, мощна, псова и свирепа. Пропорционально сложенная, такая борзая если это кобель, то должен быть крутой, с верхом, страшной ширины и в комке точно сбитый, а сука прямостепая, широкая, с богатырскою колодкой и длинная, но не перелякая, не растянутая и без всякой переслежины.
Голова псовой борзой должна быть большая, сухая и костистая, с длинным, здоровым, ровным щипцом и никак не вострощипова-та, т. е. не тонкорыла или, как говорят, кувшинница; вообще голова псовой борзой не должна представлять пряничной головки, словом, голова псовой борзой должна быть очень правильная, но в увеличенном пропорционально росту размере против чистопсовых собак. Лоб средний, не очень широк и не узок; глаза очень большие, свирепые, со слегка отвислыми нижними веками, из-за которых должен виднеться кровавый белок страшного глаза.
Уши псовой борзой должны быть в откладе, так же как у чистопсовых, небольшие и даже немного крупнее, при этом могут быть в чепце или без него, стоячими конем или с приподнятым ушком, но всегда в спокойном состоянии в откладе, и чем ухо псовой борзой имеет правильней зарез, тем лучше; это означает, что такая псовая борзая выродилась ближе к типу чистопсовых собак; с распущенным ухом, но только в слабом виде распущенности могут быть псовые борзые, выродившиеся ближе к типу собак борзых курляндской породы, что хотя и не доказывает непородности псовой борзой, как и все упомянутые разновидности постанова ушей у псовой собаки, но тем не менее уменьшает красоту собаки; большая же распущенность уха у псовой борзой (т. е. мешаное ухо), несомненно, должна служить доказательством грубой меси собак.
Ноги прочные, мускулистые и крепкокостистые; при этом должны быть сухи так, чтобы на костях через кожу видны были жилы; пазанки средней величины пропорционально росту собаки, и задние пазанки должны быть скорее высоки, т. е. длинны, чем низки; лапа большая, продолговатая, с сухими, плотно прижатыми друг к другу костистыми пальцами; передние ноги от бочковатости ребер и ширины груди должны быть обращены лапами как бы внутрь и, слегка суживаясь в оконечностях, стоять должны прямо, как натянутые струны; задние ноги должны быть скорее лучковаты, чем прямы, но непременно правильно поставлены, т. е. не вразмете и не лыжеваты: стоять псовая борзая должна на коготках, как и всякая хорошая борзая собака.
Грудь широкая, но не выпуклая; грудные западины довольно глубоки; соколок груди едва выдается из-за плеч.
Шея длинная, но еще лучше, если конистая, как у чистопсовых.
Ребра очень низкие, ниже локотков пальца на три и бочковатые, так что на загривке собаки (т. е. над передними лопатками) должна свободно укладываться ладонь; ширина зада так велика, что между маклоками можно укладывать семь пальцев, и вообще зад должен быть шире переда.
Подхват хороший, высокий, необходимый для собаки с верхом.
Правило псовой борзой должно быть длинное, прочное в основании и к концу тонкое, в спокойном состоянии собаки опущенное книзу и только в рыску приподнятое в чистом серпе. Длина правила у псовой борзой определяется таким же способом, как у чистопсовой, только правило псовой борзой должно быть немного длиннее правила чистопсовой, т. е. чтобы последний хвостовой позвонок мог при измерении только доставать до позвоночного столба и ни в каком случае не далее, так как более длинное правило или более короткое, чем у чистопсовой, будет составлять уже большой недостаток, не говорящий в пользу чистокровности борзой псовой породы.
Плечи полные, мускулистые. Движение в локотках свободное. Соколок груди едва выдается из-за плеч вперед.
Черные мяса огромные, полные, с страшно развитою мускулатурой и крепкие.
Псовина псовой борзой должна быть длинная, приблизительно двухвершковой длины, притом редкая, не густая, всегда мягкая, как шемаханский шелк, и непременно блестящая, серебристая, одинаково длинная как на ребрах, мышках, шее, так и на спине; уборная псовина, привесь и отчесы много длиннее обыкновенной; так, например, уборная псовина на гачах нередко достигает четырехвершковой длины, с густым подшерстком, и висит вниз волнообразными шелковистыми прядями; на нижней стороне ребер и подхвате — очень редкая, без заметного подшерстка и никогда не превышает двух с половиною вершков длины, и то только в самом низу, так что на взгляд это удлинение против обыкновенной псовины должно быть почти незаметно. Отчесы у кобелей иногда бывают громадные и нередко достигают 4-вершковой длины; у сук же отчесы бывают преимущественно одинаковой длины с обыкно-венною псовиной и редко превышают ее. Привесь на правиле от трех до четырех вершков длины, висящая вниз с нижней стороны правила и всегда, за очень редкими исключениями, прямая, шелковистая; волнообразная привесь встречается очень редко; с верхней стороны правила псовина должна быть короче обыкновенной и, постепенно укорачиваясь к концу правила, только у основания его всегда бывает в завитках или волнообразною; на передних же ногах с задней стороны шелковистая редкая привесь не должна превышать длины обыкновенной псовины. Псовина на голове, начиная от ушей и шеи, и на ногах спереди лолжна быть очень короткая, в виде мышиной шерсти, и немного только от глаз к ушам крупнее, но непременно блестящая и атласисто-гладкая. Вообще псовина борзых псовой породы бывает трех сортов, а именно: прямая, вилая, т. е. волнистая или волнообразная, и в завитках. По этим видам псовины и выражаются охотники о псовых собаках так: «Прямопсовая; с вилою псовиной; с псовиною в завитках». Все эти разновидности псовины происходят у псовых борзых вследствие того, что собака если выраживается ближе к типу курляндских борзых, то бывает с вилою или в завитках псовиною, если она выродится ближе к типу чистопсовых собак, то бывает с псовиною более прямою. И поэтому ни одна из этих трех разновидностей псовины у борзых псовой породы не исключает их чистокровности, при одном только условии, чтобы псовина эта была не густа, т. е. не шерстиста, так как шерстистость, густопсо-вость всякой борзой есть неизменный признак грубой меси в собаке и доказательство подмеси крови овчарных или дворных собак.
Настоящий окрас псовой борзой: белый, бледно- или красно-полово-пегий, серо-пегий и муруго-пегий.
Линька борзых псовой породы составляет главную их особенность и заключается в том, что кровная борзая псовой породы начинает линять с апреля месяца и продолжает линьку до половины сентября, совершенно незаметно для глаз неопытного охотника; она никогда не вылинивает сразу, а теряет псовину постепенно, по волоску, так что вида своего не изменяет и во время линьки, чего никак не может быть с грубомешаными псовыми и других пород собаками.
Рост борзой псовой породы крупный.
Характер энергичный, но скоросый и свирепый.
Рыск передний или у стремени; походка гордая и как бы с иноходью».
Очевидно, г. Губин огщбывает здесь не псовую, а разновидность густопсовой, более грубых и широких ладов, т. н. волкодавов, отличавшихся силою и свирепым характером; весьма сомнительно, однако, чтобы эти волкодавы имели длинную шею и отвислые нижние веки. Более нежели странно утверждать после напечата-ния «Регула» фон Лессина, что псовая борзая — порода недавнего происхождения, образовавшаяся от смеси чистопсовой с курляндской, и совершенно отрицать существование густопсовой, которая, в действительности происходя от смеси старинных псовых с кур-ляндскими псовыми, именно отличалась густою псовиною, унаследованною ею от последних.
«О курляндских борзых собаках. Курляндские борзые представляют собою самый крупный тип собак изо всех пород борзых, известных у нас в России.
По виду курляндская борзая страшна и как бы неуклюжа. Движения ее походят как бы на движения медведя, бегать рысью она никогда почти не могла, а рыскала иноходью, с развалом или напрыгом, а поэтому курляндская борзая при громадной своей величине, необъятной ширине зада, страшной низкопередости и общей сыроватости, при понуром ее виде, казалось бы, ничего не должна обещать по виду в пользу своей резвости, но тем не менее необыкновенная правильность ее частей, в отдельности взятых, дает ей возможность быть страшно резвой, но только на очень коротком расстоянии. Вообще курляндские борзые, как кобель, так и сука, должны быть с верхом: зад много выше и шире переда, вследствие чего при крутом верхе собаки и большом ее наклоне к переду она должна быть всегда низкопереда.
Голова курляндской борзой прилобиста и сыра, с продольною впадиною (лощинкою) посредине лба; щипец длинный, здоровый и правильный; лоб средний, скорее широк, чем узок; глаза большие, свирепые.
Уши средней величины, скорее велики, чем малы, узки, продолговаты и постоянно в откладе лежат по обеим сторонам головы, вдоль шеи. При этом в возбужденном состоянии собаки курляндской породы никогда ушей не ставят во всю их длину, а только как бы вздергивают их кверху, причем кончик уха свисает как бы назад и набок; но, несмотря на распущенность уха, никогда не поворачивают их кпереду, свесив и запрокинув всю конечную половину уха наперед, как это делают борзые мешаной породы.
Ноги прочные, сухие и крепкокостистые: главная особенность ног курляндской борзой заключается в том, что задние ноги много длиннее передних (сравнительно с размером ног борзых собак других пород); задние пазанки длинные; передние пропорциональны величине передних ног и скорее низки, чем высоки; лапа большая, продолговатая, но сравнительно с лапами борзых других пород круглее; передние ноги должны быть прямы, а задние лучковаты и слегка как бы вразмете, но так, чтобы это не составляло положительного недостатка или порока в собаке. Вообще постанов ног, и в особенности передних, должен быть правилен.
Грудь не широкая сравнительно с шириною зада; соколок груди не выдается из-за плеч, и грудные западины довольно глубокие.
Шея правильная.
Ребра низкие и бочковатые; ширина степи, крестца, и в особенности зада, необыкновенная. Зад много шире переда.
Подхват хороший, высокий, необходимый у собак с верхом.
Правило курляндской борзой очень длинное и ровное, так что при измерений длины правила способом, указанным выше, последний хвостовой позвонок, проходя через маклок, может соприкасаться с другим, противуположным маклоком, но не далее того; притом правило курляндской борзой во всяком ее положении должно быть опущено книзу и только в конце загибается немного кверху, изображая из себя как бы букву г; во время же скачки за зверем курляндские борзые отделяют правило так же, как и всякие другие борзые собаки.
Плечи полные, мускулистые. Движение в локотках свободное. Соколок груди не выдается из-за плеч вперед или иначе, не заметен.
Черные мяса огромные.
Псовина курляндской борзой должна быть длинная, приблизительно двухвершковой длины, и вся в мелких завитках, притом совершенно равномерно распределена по всему корпусу собаки, за исключением кобелей, у которых псовина на шее, постепенно удлиняясь к голове, нередко достигает трехвершковой длины и бывает с более крупными завитками, что и заменяет у кобелей отчесы; у сук же и этого не бывает, а потому псовина на всем корпусе у сук должна быть одинаковой длины. Главная особенность породы курляндских борзых та, что эта порода собак не имеет ни отчесов, ни привеси. Щипец и нижняя часть головы, а также ноги передние от локотков, а задние от колен покрыты очень короткою атласисто-гладкою и блестящею псовиною, как голова и ноги спереди у псовых и чистопсовых борзых; лоб, начиная от глаз до ушей, хотя покрыт такою же короткою псовиною, но уже псовина эта лежит волнообразно, переходя между ушей как бы в завитки, сливающиеся у ушей с завитками обыкновенной псовины; правило все кругом покрыто короткою волнообразною псовиною, как у двухмесячных щенят псовой породы. Вообще псовина курляндских борзых мягкая, шелковистая; но тем не менее грубее псовины борзых псовой породы.
Настоящий окрас курляндской борзой: серый, половый всех теней, муругий, чубарый и пегий означенных мастей. Окрас белый без отметин никогда у курляндских борзых мне не встречался.
Линька у курляндских борзых начинается с апреля месяца и продолжается до сентября, как и у псовых борзых, но только выпиливает курляндская борзая не так, как псовая; она линяет частями, так, например, прежде вылиняет шея, затем перед, а на заду держится еще старая псовина, и наоборот, и т. д., словом, курляндская борзая сбрасывает с себя старую псовину не по волоску, как псовая борзая, а частями*.
Рост курляндской борзой— самый крупный, так что суки менее 17 вершков, а кобели менее 18 вершков встречаются как исключение.
Характер свирепый и притом понурый.
Рыск задний и у стремени, притом всегда напрыгом или иноходью с развалом, рысью же почти никогда.
Резвость курляндской борзой страшная, но только на очень коротком расстоянии; при этом курляндские борзые очень поимисты, чему способствует их низкопередость, а в схватке с волком они незаменимы по причине необыкновенной их силы, т. е. мощности и злобы».
Это описание курляндской псовой единственное** и, надо полагать, совершенно верное.
Собственно говоря, признаки всех псовых совмещены в большей или меньшей степени в современной псовой, которая нередко имеет склад чистопсовой, псовину волнистую и голову псовой или густопсовой. Поэтому всего целесообразнее рассмотреть в отдельности каждую часть тела всех пород псовых на основании описаний старинных и современных охотничьих авторов; затем из имеющегося и разобранного критически материала будет уже нетрудно составить приметы современной псовой. Начнем с головы.
Красота и правильность головы у борзой, как у большей части пород собак, главнейшее условие породистости. Породистой, кровной борзой, как замечает Д. П. Вальцов, можно скорее простить поползшие ноги, чем грубую и короткую голову. Кроме курляндской псовой, имевшей сравнительно широкий лобастый череп и сырой щипец свайкой, у всех русских борзых голова должна быть
* В этом она представляет большую аналогию с русскою степною овчаркою. — Л. С.
** Несмотря на все старания, мы не могли найти ни одного печатного указания в немецкой литературе Остзейского края. Полагаем, однако, что в старинных усадьбах баронов должны сохраниться по крайней мере изображения этих борзых на картинах и портретах прошлого столетия.
узка, суха и длинна; у старинных псовых и густопсовых череп был настолько узок, что уши у них скрещивались концами*, чего у современных никогда не замечается. Почти у всех русских борзых, отличающихся злобностью, головы сравнительно грубее и прило-бистее, щипец короче и мясистее, т. е. с очень сильно развитыми жевательными мускулами; такое строение головы отчасти зависит от подбора, но едва ли не чаще происходило от подмеси ради увеличения злобности крови брудастых или же курляндских псовых.
Как это ни странно, но до сего времени отношения размеров головы к росту и длине борзой, а также щипца (т. е. морды) к черепу с точностью неизвестны, так как никаких измерений не производилось и судьи руководствовались при оценке головы лишь глазомером, не у всех одинаково верным. Вообще голова псовой борзой относительно длиннее и $же в черепе, чем у английских, и приблизительно равняется росту собаки в загривке, а длина шипца должна равняться длине черепа или немного превосходить ее. Череп сверху плоский, овальной формы, не расширяющийся к затылку, а переходящий с небольшим закатом в сильно развитый и острый соколок**, точнее, затылочный гребень, причем, однако, затылок не отделяется от шеи, а незаметно переходит в нее. Ква-дратность или клинчатость черепа, также прямой срез к затылку — безусловно порочны. Надбровные дуги мало развиты, и лоб постепенно переходит в щипец без перелома, так что от самого затылка до конца морды (вощечка) выходила бы прямая линия. Иоътоцу допускается лишь едва заметная изложина посредине лба. Ермолов называет профиль головы псовой греческим в том смысле, что, если смотреть в профиль, линия лба и щипца представляется почти прямой, с незначительным возвышением у бровей и с впадиной между глаз.
У чистопсовых, происходивших от хортых, череп был всегда выпуклее, чем у происходивших от смешения псовых с восточными борзыми, голова которых мало отличалась от головы русских борзых. Самое главное, чтобы лоб не имел выпуклости и передома, как у английской и курляндской псовой, а сливался бы со щипцом; однако небольшая прилобистость, придающая собаке более серьезный и угрюмый вид и своеобразную красоту, не может считаться
* Такое положение ушей встречается у согостырских (в устьях Лены) борзовидных лаек, употребляемых для заганивания оленей в тундре. Только уши у них скрещиваются, когда прижаты к шее; в спокойном же состоянии уши не соприкасаются.
** Губин и большинство охотников называют соколкдм выдающуюся часть грудной кости, что правильнее. Ермолов и некоторые другие соколо-ком зовут затылочный гребень.
пороком, равно как и легкая горбоносость. По справедливому замечанию Вышеславцева, «щипец, несколько наклоненный книзу, не так походит на волчий или лисий», Прилобистость, большею частью соединенная с горбоносостью, замечалась у трегубовских собак, у Чародея, ратаевской Злодейки и у большей части потомков последней, составляя весьма устойчивый признак некоторых отродий псовых и густопсовых в особенности. Но, само собою разумеется, излишняя горбоватость щипца, напоминающая баранью голову, очень некрасива и порочна.
Щипец должен равномерно утончаться к концу, иметь надлежащую длину и быть настолько сухим, чтобы на нем ясно виднелись формы личных костей и главные вены; подбородок до горла не мясист и покрыт нежной атласистой псовиной. Очень узкий, тонкий и сильно заостренный щипец, так же как маленькая голова, не свойственны псовым*. Острощипость почти всегда соединяется с подуздостью, т. е. укорочением нижней челюсти, вследствие чего верхние резцы находятся впереди нижних. Такое строение щипца составляет большой порок у всех собак, тем более у борзых, и бывает причиною непоимистости. Кроме того, подуздость, придавая щипцу борзой сходство с стерляжьим носом, крайне безобразит общий вид собаки, а потому считается всеми большим пороком, тем более что она большею частою является следствием ведения породы в близком родстве и передается в потомство. Точно так же порочен щипец слишком тупой, курносый с выемкой и так называемый щучий, т. е. широкий и плоский. Вощок (чутье) непременно черногр или темно-коричневого цвета; светлый вощок — большой недостаток и служит признаком начинающегося вырождения; ноздри довольно широкие (раскрытые), чуть выдающиеся над нижнею челюстью.
Глаза. «У каждой кровной породистой, резвой и красивой борзой, какой бы породы она ни была, — говорит Мачеварианов, — глаз должен быть огромный, блестящий, навыкате». Это совершенно верно, так как неоспоримо, что изо всех чувств самое необходимое для борзой — зрение. «Зазор навыкате», говорил еще фон Лессин, но отсюда не следует, однако, заключать, что глаза должны быть выпуклы, так как выпуклость глазного яблока связана с близорукостью. Мачеварианов, а за ним Ермолов сравнивают глаз псовой с вальдшнепиным, но сравнение это весьма неудачно именно потому, что у вальдшнепа, как почти ночной птицы, глаза слишком выпуклы и круглы; кроме того, они имеют
* Поэтому рисунок густопсовой, сделанный Вышеславцевым, с очень маленькой пряничной головкой совершенно не верен. Следует заметить, что у псовых сук, как у всех собак, голова относительно меньше и тоньше, чем у кобелей.
чересчур кроткое и даже глупое выражение. Гораздо вернее сравнить глаза борзой с соколиными, так как они должны быть ясными, блестящими и иметь тот острый взгляд или выражение, которое присуще хищным птицам. «Голова с огнистыми и ясными глазами» (Левшин). «Глаза горят, как агаты» (Челищев).
Хотя взгляд псовой имеет, если она не ласкается, суровое или по крайней мере серьезное выражение, но он все-таки не должен быть свирепым. Поэтому весьма странно, почему г. Губин в своем руководстве, описывая псовую борзую (вернее, густопсовую), говорит, что глаза у нее «большие, свирепые, с слегка отвислыми нижними веками, из-за которых должен виднеться кровавый белок страшного глаза» (т. е. белок с кровяными жилками). Действительно, у некоторых волкодавов замечаются иногда кровяные пятнышки на белках, но это происходит от частого озлобления при схватках с волками (Мачеварианов); отвислости же век ни в каком случае у псовых (за исключением курляндских псовых) быть не должно, и такой глаз всего чаще встречается у хортых от отдаленной подмеси мордашей, которой в русских борзых никогда не бывало.
В общем, глаза у псовой больше, чем у английской, не так круглы, как у брудастых, и имеют продолговатый и прямой разрез, отнюдь не косой, как у волка, лисы и некоторых лаек. Что касается цвета радужины, то он должен быть черный или темно-карий; карие желтоватые глаза — недостаток, особенно у белых, полбвых, серых и пегих этих окрасов собак; такие глаза допускаются лишь (Озеров) у чубарых, бурматных и этого окраса пегих. По замечанию некоторых охотников, у особенно злобных собак глаза большею частью с желтоватою радужиной, но эта примета не вполне верна и, вероятно, основана на том, что в очень злобных псовых часто бывает примесь брудастых и что желтый глаз имеет всегда очень суровый, иногда даже свирепый взгляд. По свидетельству старых охотников, густопсовые, в большинстве волкодавы, имели чаще суровый взгляд, более гармонировавший с их несколько понурым видом и волчьей манерой держать шею. Глаза в темных окрайках, окружены ресницами (черными); подопрелые веки, т. е. светлого, телесного цвета, хотя некрасивы, не составляют, однако, порока, как полагают многие, потому что встречаются большею частью у кровных собак белого окраса, и хотя передаются потомству, но легко могут быть исправлены производителем, не, имеющим этого недостатка. По свидетельству С. Кареева, изредка замечаются у псовой и серые глаза; это, однако, уже признак начинающегося вырождения. У очень кровных собак вследствие частого кровосмешения глаза имеют часто различную величину и окрас, подопрелые веки, наконец, становятся почти белыми.
Уши подобно глазам составляют нераздельную часть головы, тем более что у современных псовых они почти не отделяются от нее и мало заметны. Мы имеем полное основание думать, что у старинных русских борзых уши были если не всегда^ то большею частию стоячими или полустоячими, т. е. с загнутыми (наперед) кончиками. К сожалению, фон Лессин об ушах вовсе не упоминает; однако значительно позднее, в начале XIX столетия, Левшин в своей «Книге для охотников» говорил: «Что надлежит до ушей, то оные у псовых собак должны быть подняты вверх, а у хортых обвислые». Во «Всеобщем полном домоводстве» им также говорится о
Рис. 12. Современная псовая. Крылат Уэльслея ‘(«Охотничий календарь»)

«бодрых» ушах, очевидно стоячих. Даже в сороковых годах А. Хомяков, говоря о русской борзой, считал ее отличительным признаком «прямое ухо, поднятое кверху, как бы настороже, т. е. по пословице: держи ухо востро».
Многие из современных охотников помнят т. н. остроушек с большими стоячими ушами, как у лаек; такие борзые встречались в некоторых охотах, особенно у мелкотравчатых, и имели своих поклонников, считавших стоячие уши признаком особенной чуткости, т. е. сильно развитого слуха и даже (!) резвости. Изредка такие остроушки встречаются вследствие атавизма кое-где и теперь; в Кубанской же области, как мы видели, почти все борзые, составляющие как бы прототип русских борзых XV и XVI столетий, имеют стоячие уши.
Но лет 50 или более стоячее ухо уже не считается типичным для псовой и густопсовой борзых; курляндские же никогда такого уха не имели. Теперь правильные уши должны быть небольшими, как бы сложенными вдвое вдоль, в расправленном виде иметь форму заостренного клина с слегка закругленными сторонами; они заложены назад и лежат вдоль шеи у затылка собаки, даже соприкасаясь концами между собою; эти т. н. уши в закладе, или откладе, имеют полную аналогию с ушами лайки, когда она их щулит, т. е. прижимает, чем-нибудь испуганная, вообще из боязни. Такое странное положение ушей не встречается ни у одной породы собак, и трудно дать ему удовлетворительное объяснение. В возбужденном состоянии или когда борзая настораживается — прислушивается, эти заложенные назад уши она более или менее приподнимает кверху конем, причем кончики их в это время обыкновенно запрокидываются наперед (т. н. ухо в чепце, по Губину); совсем стоячее ухо, как сказано, встречается у немногих современных псовых даже в минуту возбуждения.
Вследствие частых скрещиваний псовых с широколобыми хортыми и вислоухими восточными борзыми вполне правильный постанов ушей встречается очень редко, и у большей части современных псовых уши хотя и плотно прижаты к шее, но широко расставлены и почти никогда не соприкасаются кончиками*; нередко они даже свешиваются концами к щекам (уши с крымью), что считается большим недостатком и признаком подмеси вислоухих борзых. Следует заметить, однако, что у чистопородных густопсовых ухо могло быть распущено вследствие атавизма, т. е. когда они выраживались ближе к типу курляндских псовых, так что распущенное ухо не всегда бывает следствием нечистокровности. Во всяком случае, уши должны быть тонки и покрыты короткой атласистой псовиной, без пучков и прядей; тонина ушей — признак высс-кой крови.
Шея. Фон Лессин говорит о «волковатой» шее, как о порочной, и советует браковать «толстошееватых» и короткую шею имеющих; также и Левшин упоминает в «Книге для охотников» о «длинной и гордой» шее. Тем не менее к числу типичных, хотя бы порочных, признаков старинных густопсовых надо отнести именно короткость шеи и ее волчий постанов — понурость, свойственный преимущественно волкодавам. Старые авторитетные охотники, как Вышеславцев, Ступишин, Челищев, положительно утверждают, что у густопсовых шея была не длинная и не поднятая кверху,
* Как, например, у Угара Тумановского.
как у лошади или лебедя, а короткая и прямая, почти на одной линии со степью (спиной), что ясно видно на рисунке густопсовой Вышеславцева и заметно в меньшей степени у старого кареевского Наяна, чебышовского Награждая, перепелкинского Поражая и у некоторых других борзых старого типа. Вообще вся шея с псовиной имела прежде волчий склад и была лишена возвышенности у затылка.
Короткость и негибкость шеи были главными причинами непо-имистости густопсовых, и в связи с броском объясняют, почему они так часто убивали зайца грудью на угонках. Обыкновенные псовые, надо полагать, всегда имели лучшую шею; точно также у
Рис. 13. Фуллертон,
.английский борзой кобель полковника Д. Т. Норта. Главный приз Waterloo Сир 1889 и 1890 гг. («Журнал охоты» А. Е. Корша, 1890, №6)

современных русских борзых, особенно имеющих кровь мачевариановских, шея правильнее, т. е. пропорционально росту длиннее, гибче, и хотя не такая гордая, конистая и выпуклая, как у английских, а также хартов и чистопсовых, происходящих от английских и хартов, но отнюдь не понурая, притом сухая, без мясистого загривка, сжатая с боков; у сук она всегда тоньше, длиннее и более плоска, чем у кобелей. Мускулистая, здоровая шея, как справедливо заметил Ермолов, нужна волкодаву, а для ловли и поимки русака удобнее длинноватая гибкая шея.
Грудь и плечи. Хотя старинные псовые имели довольно широкую грудь, но она никогда не достигала ширины английских и восточных борзых. Несомненно, однако, что густопсовые всегда имели сравнительно узкую грудь, а у последних вырождавшихся представителей этой породы грудь была даже чрезмерно узкая и впалая. По Вышеславцеву, она была не шире ладони и не выдавалась между плеч. Недостаток ширины у этих борзых более или менее возмещался глубиною груди, которая спускалась на 2—4 пальца ниже локотков. Вообще следует заметить, что у борзых, как у животных, предназначенных для быстрой скачки, грудь должна быть сравнительно уже, чем у всех других пород собак, и притом тем уже, чем кратковременнее бывает их скачка, то есть пылкие борзые всегда лещеватее сильных, ловящих вдаль. Мы видим, что у английского скакуна, у дикой козы, зайца, даже у волка, отличающегося выносливостью в беге, грудь всегда гораздо Јже сильно развитого зада. У современных псовых она сделалась шире, выпуклее, мускулистее, с выдающимся из-за плеч соколком, без глубоких западин, но зато редко спускается ниже локотков; многие псовые имеют даже распахнутую грудь, что у скакового животного считается большим пороком. Во всяком случае, зад борзой должен быть гораздо, по крайней мере в полтора раза, шире переда.
У прежних псовых, тем более густопсовых, плечи были не очень выпуклы, даже плоски; у современных же они полнее, мускулистее и резче очерчены, особенно у мачевариановских и им сродных. Плечи у них с довольно высокою лопаткой, косые, с свободными локотками, отделенными от грудного ящика, так что между ними и ребрами помещается палец или два; подвернутые внутрь локотки — большой недостаток, так как собака, тыкаясь локотками в грудной ящик, не может иметь быстрой скачки; кроме, того, они всегда бывают соединены с косолапостью, т. е. вывернутыми наружу лапами. Замечательно, что теперь, как в старину, тупой и короткий соколок груди считается признаком тупости борзой в скачке. У фон Лессина говорится притом, что у сук «соколок должен пригнуться книзу, а у кобелей надлежит быть направленным кверху или прямо».
Ребра, образуя грудной ящик, составляют нераздельное целое с грудью и должны бы рассматриваться с нею. По-видимому, старинные псовые были так же широки в груди и имели выпуклые, а не плоские ребра, как большинство современных, но ребра были у них спущены ниже локотков, чем они отличались от более широкогрудых чистопсовых и курляндских псовых. Фон Лессин говорит положительно: «ребра ниже щиколоток (!)», и далее «ребра, низкие, свислые, притом же плотные». Даже в книге «Псовый охотник» (1785), составляющий перевод с польского, и где, по всему вероятию, описывается хортая, а не псовая, требуется от статной борзой ребер долгих, плотных, ровных и ниже локотков, но притом бочковатых, что почти несовместимо. Вообще грудь псовой имеет или, вернее, имела большое сходство с грудью северных вол-кообразных собак.
Широкое ребро всегда было признаком сильной собаки: «слабая собака пашистая и редкоребрая — ребро от ребра отстоит далеко» (фон Лессин). Однако «резвыми или ловцом они быть не мешают, только день езди, три корми». О широком ребре и ребристости говорит и Левшин. Даже в 70-х годах Н. Чёлищев, описывая старинную густопсовую упоминает о частых, как бы слитых, ребрах.
Тем не менее надо полагать, что широкие ребра не были характеристичны для настоящей густопсовой, изо всех борзых имевшей самую короткую колодку, — именно потому, что слитые ребра могут давать только силу в скачке, но не резвость. Вышеславцев, таким образом, прав, требуя у густопсовой большого расстояния между ребрами, что при короткости собаки почти уничтожает пахи; по его справедливому замечанию, достаточное расстояние между ребрами как у скаковой лошади, так и у борзой дает возможность туловищу сильно сгибаться и разгибаться при скачке.
Что касается собственно большей или меньшей выпуклости ребер, неправильно называемой бочковатостью, то у современной псовой ребра все-таки менее закруглены, чем у английской и восточных борзых, у которых грудной ящик в разрезе составляет почти правильный овал. У псовой же он должен иметь в разрезе яйцевидную форму с тупым концом на спине, а у лещеватой и остростепой густопсовой даже чечевицеобразную. Вообще не следует увлекаться бочковатостью ребер у борзых, всегда соединенной с чрезмерно широкою, распахнутою грудью. Очевидно для всякого, что грудная клетка с крутыми круглыми ребрами не может сильно увеличиваться в объеме при дыхании и что широкая грудь обусловливает укорачивание плеч и выворачивание локотков наружу.
В настоящее время требуют от псовой ребер только до локотков при достаточно широкой, даже чуть распахнутой груди; если же грудь узковата, то ребра должны быть обязательно спущены ниже локотков на 1—2 пальца, как у старинных густопсовых, то есть глубина груди обратно пропорциональна ее ширине. Сильно
5—1024 спущенные ребра при короткости колодки у кобеля часто быстро уменьшаются к подрыву. Это некрасиво, хотя не может считаться порочным (Ступишин), ко вообще длинные последние ребра всегда считались признаком резвых и сильных в полях собак. С другой стороны, борзая с крутыми короткими ребрами, постепенно уменьшающимися к подрыву, всегда кажется прибрюшистою, особенно сука, и не имеет правильного подрыва, так как живот у нее не подобран выше пахов. Между тем резко обозначенные пахи способствуют свободному галопу даже у легавых. Вообще окружность груди у борзых должна быть несравненно более окружности живота, чем у всех прочих пород собак, а именно в 1 V2 раза и до 2-х.
Спина. Строение спины и зада обусловливает большую или меньшую силу всякого четвероногого. Широкая прямая спина с сильно развитым задом встречается у борзых сильных, т. е. способных к продолжительной скачке — хортых и восточных. Все же породы и отродья русских борзых, даже чистопсовые, никогда не имели прямой брусковатой или широкой спины, так как все они были низкопереды и не предназначались для продолжительной скачки в полях. При постанове задних ног под себя перпендикулярно телу и при их длине крестец неминуемо должен был выгнуться и образовать верх, характерный для всех пород псовых, в особенности курляндских псовых, которые были самыми низко-передыми и широкозадыми из русских борзых. Таким образом, спинной хребет имел выгкб, который был особенно заметен при короткости колодки, т. е. у кобелей.
Искривление это не следует смешивать с переслеговатостью или провислостью, замечаемой преимущественно у старых сук и слабых кобелей и выражающейся з том, что концы лопаток выдаются выше средины степи (спины). У сук, имеющих более длинную колодку, чем кобели, спина может быть почти прямою, но все-таки крестец (маслаки) должен несколько возвышаться над лопатками и ни в каком случае не быть ниже их. Таким образом, у сук может и должен быть некоторый наклон, то есть, как правильно говорит Д. П. Вальцов, спуск от крестца к лопаткам, что бывает у всякой низкопередои собаки, даже при прямой спине. У кобеля же, по его мнению, должен быть верх, а не наклон, то есть выгнутая посредине спина; степь от лопаток удлиняется горбом и понижается к маслакам; очень большой верх может, однако, оказаться горбом и, следовательно, порочным неестественным искривлением спинного хребта.
Правильно выгнутый хребет (или т. наз. напружина) дает спине упругость и гибкость, очень важные в поскачке, особенно на небольшие расстояния, хотя и в некоторый ущерб силе. «Прямой крестец, — замечает Вышеславцев, — плохая рекомендация для скаковых лошадей и борзых». При таком выгибе, или верхе, зад необходимо должен быть слегка свислым, как у многих английских скакунов. Правильный верх должен, по Вальцову, начинаться от плеч, идти полукругом (?) до середины спины и также постепенно спускаться к крестцу, так что линия крестца составляла бы без всякого излома его продолжение до корня правила. Озеров тоже требует, чтобы верх начинался от плеча постепенным возвышением, достигал середины между плечами (лопатками) и кострецом (крестцом) и также бы постепенно спускался, образуя чуть скошенную линию между кострецом и корнем правила (хвоста). Он полагает, однако, что требовать у собаки в полевом теле этого перехода без малейшего намека на западинку при соединении лопаток со спинною костью невозможно. Короткий обрубленный крестец — большой порок, ибо ведет к еще большему — прямым палкообразным ногам. По Блохину, степь, понижаясь к маслакам, переходит в так называемую срамную площадь, которая понижается к комлю правила и расширяется к вертлюгам. Эта срамная площадь (между маслаками и комлем правила) у псовых длинная, а не короткая, как у английских, и совершенно плоская, то есть вертлюги не ниже правила.
Что касается ширины спины у русских борзых, то она, конечно, всегда соответствует ширине груди и грудного ящика. Скамьистая, то есть плоская, широкая брусковатая спина псовым вовсе не свойственна. Разумеется, собака не должна быть остростепой, иметь шатровую спину, как у осетра: это — порок, присущий только выродившимся чистокровным густопсовым и не встречающийся ни у какой другой породы. Однако плоская спина с сильно развитыми мускулами может дать только силу, а не резвость: спина должна быть слегка закруглена, но не может иметь желобка. По мнению Озерова, спина должна быть настолько широка, чтобы скрыть от глаз соединение спинного хребта с ребрами достаточно брускова-той полосой. Правильная степь действительно должна быть закругленная — облая, как определил ее еще фон Лессин: «Степь или наклон— облая… Сухопарые и небегчивые собаки имеют не облую степь, но шатровые и сами собою узкие».
Последние слова доказывают, что во времена Алексея Михайловича борзые с острыми выдающимися позвонками не составляли редкости; быть может, они уже предпочитались другим для ловли на коротких перемычках, где силы вовсе не требовались.
У сук спина должна быть несколько шире, особенно в мочах. Чем ближе современные псовые к густопсовому типу, тем чаще между ними встречаются суки, имеющие небольшой верх при достаточно длинной колодке. Вообще чем прямостепее собака, тем спина у нее шире, и наоборот: очень крутые кобели всегда бедны спиной, и она у них бывает пирогом, т. е. с заметными позвонками, несмотря на густую и длинную псовину.
Многие авторитетные охотники высказывали мнение, что от суки с верхом (напружиной) всегда более шансов получить ладных, крутых кобелей, чем от прямостепой*. Приверженцы широкой сложки псовых утверждают, что скамьистые суки всегда лучше вынашивают щенят и бывают молочнее сук с напружиной. Это верно только относительно коротких сук в кобелиных статях, как для всех пород собак, но если у суки просторные пахи и брюхо имеет достаточное помещение для щенят, то замечание это лишено основания.
Хотя густопсовые и курляндские псовые несомненно были узкогруды и лещеваты, особенно первые, но можно утвердительно сказать, что при всем том они имели, особенно курляндские, широкий, даже несоразмерно, зад. У старинных псовых времен Алексея Михайловича между крестцов свободно укладывались четыре пальца (фон Лессин). Вышеславцев, описывая густопсовую с узкою грудью и спиною пирогом, говорит о сильно развитых почках и широком заде. По Блохину, между маслаками** должна была укладываться ладонь большой мужской руки. У знаменитых трегубовских собак, по свидетельству Мачеварианова, между задних маслаков укладывалось шесть пальцев. Собака с широким и свислым задом может дальше бросать под еебя задние ноги, вследствие чего скачок ее длиннее. Таз непременно должен быть широк, ибо только при этом условии задние ноги могут далеко захватывать пространство впереди передних.
Передние ноги. Плечевая кость должна несколько податься назад при соединении с локтевою, то есть плечи косые, тогда ноги будут стоять правильно, под собаку, иначе будет казаться, что собака стоит на подпорках. Хотя передние ноги служат только опорой во время скачки, как у зайца, тем не менее они не должны быть тонки костью, так как при несоразмерно слабых передних ногах борзая будет пронослиза на угонках — непоимиста. У резвых и достаточно сильных борзых передние ноги костисты, жилисты, не мясисты, так что сквозь кожу видны вены, конечно, правильны, параллельны от плеча до лап и образуют с передними пазанками
* По свидетельству С. С. Кареева, 18-вершковая сука Заирка Калмуц-кого с верхом давала отличных щенят и отлично их выкармливала.
** Маслаками (правильнее мослаки) называются выдающиеся оконечности папортных костей, т. е. таза, к которым прикрепляются кости задних ног и между которыми помещается крестец. Вертлюги же означают сустав, в котором соединяется задняя нога с папортною костью таза.
(пястью) почти прямую линию (передние ноги в струне). Нельзя, однако, не согласиться с мнением немецких кинологов, что «совершенно прямые бабки не имеют надлежащей гибкости — упругости и при остановке на полном скаку вызывают растяжение связок и бывают причиной быстрого утомления и даже вывихов». Сухие ноги спереди всегда кажутся более узкими, чем сбоку, т. е. не круглыми; вообще кости передних ног должны быть сплющены с боков.
Задние ноги с мускулами составляют главную часть тела борзой, как всякого скакового животного. Наиболее важное значение имеют седалищные мышцы — черные мяса. Старинные псовые, густопсовые в особенности, довольно резко отличались строением задних ног от английских, восточных и отчасти современных псовых в том отношении, что все мускулы у них были плоски — не так выпуклы — и длиннее, что зависело от большей длины костей задних ног сравнительно с передними, чего мы не замечаем у других пород. При широком заде ноги широко расставлены, параллельны между собою, если смотреть сзади; при узковатом заде коленки (вернее, пяточные кости) сближаются и зад собаки принимает форму коровьего или телячьего.
Следует заметить, что старинные охотники никогда не называли задние ноги с слегка вывороченными наружу лапами порочными, а напротив — считали таковые приметой резвости, вернее пруткости (прыткости, т. е. резвости накоротке). Действительно, параллельные задние ноги и пазанки могут быть красивы только у широкозадой борзой; при узковатом же заде они должны быть широко расставлены, но это еще далеко не коровьи ноги. Во всяком случае, такой постанов способствует более свободному и дальнему закидыванию ног вперед во время скачки и он гораздо правильнее обратного положения постанова ног с вывороченными в поле (наружу) коленками и лапами, вывернутыми внутрь. Собака уже потому может широко расставлять задние ноги, что они очень длинны сравнительно с передними; при этом они могут быть совершенно правильными.
Точно также по причине чрезмерной длины задних ног старинные русские борзые держали их или сильно вытянутыми назад, или под себя, сильно выгнув спину. Первый постанов встречается иногда у английских борзых; второй же свойствен исключительно некоторым псовым и большинству чистопсовых и обусловливает тот верх, который характеризует последних: собака изображает собою как бы согнутую пружину, готовую выпрямиться. Так держат задние ноги олени, козы, зайцы, и очень может быть, что так называемый бросок обусловливается именно таким постановом. Далеко отставленные назад ноги, по-видимому встречавшиеся чаще у обыкновенных псовых и чистопсовых, также придают много красоты собаке, так как она тогда напоминает английскую скаковую лошадь. Это называлось «задние ноги потянулись», «задние ноги в струне». У современных псовых, большею частию пря-мостепых и с укороченными задними ногами, оба эти постанова, особенно первый, замечаются редко.
В обоих случаях задние ноги, собственно голени, должны соединяться с пазанками под углом, т. е. иметь ясно очерченный сгиб (в противном случае собака будет казаться стоящею на подпорках), однако не настолько, чтобы казаться лучковатыми, т. е. слишком согнутыми. С прямыми и, следовательно, короткими задними ногами (вопрямь) собаки и лошади редко хорошо скачут*, и такие ноги некрасивы даже не у борзых (наприм., пойнтеров, сеттеров), которые именно должны отличаться особенно удлиненными задними конечностями. Прямые ноги без обозначенных коленок всегда имеют удлиненный пазанок, обусловливающий силу, но не быстроту. По мнению немецких кинологов, «очень прямой постанов задних ног сильно уменьшает быстроту хода (у легавой) и обыкновенно соединяется с неправильною спиною». У старинных псовых, тем более густопсовых, пазанки были короткие, что по законам зоотехнии весьма выгодно для быстроты движения. Английским коннозаводчикам это давно известно, и у знаменитых скакунов ноги от колен, как передние, так и задние, соответствующие пазанкам, короче, чем у рысаков и других лошадей; то же замечается у зайцев. Чем длиннее берцовые кости и, следовательно, их мускулы, тем большие скачки может делать животное. Хотя у оленя, козы и других быстроногих зверей задние ноги от коленок (пазанки, бабки) и длинны, но зато скакательный мускул у них необычайно широк и полон, т. е. выпукл.
Действительно, если мы примем во внимание, что для быстроты скачки кроме учащенности скачков важное значение имеет длина прыжка, которая всегда находится в прямом отношении к длине ноги, то мы необходимо должны прийти к заключению, что короткий пазанок необходим, так как он удлиняет ногу вследствие того, что собака, как бы сильно ни вытягивала ногу, всегда ставит ее под углом в скакательном суставе. Кроме этого, при опускании ноги с длинным пазанком на землю потребуется более времени, чем ноге с пазанком коротким, ибо прямая линия от зацепов до
* У очень резвого Завладая Максимова, взявшего первый приз на московских садках, задние ноги были вопрямь, но зато имели сильно развитые и выдающиеся черные мяса. По моему мнению, задние ноги вопрямь с удлиненными пазанками встречаются у псовых вследствие атавизма и унаследованы от северных волкообразных собак.
земли будет длиннее. Длинными пазанки не могут быть и потому, что голенная часть у густопсовых длиннее, чем у других пород (Ступишин). Длинный же мускул скорее устает, а потому собака с короткими пазанками не способна к продолжительной скачке. Таким образом, у современных псовых, имеющих более развитые, выдающиеся, хотя укороченные, бедряные мускулы, пазанки должны быть длиннее, чем у густопсовых, не достигая, однако, размеров пазанков, например, лаек.
Во всяком случае, пазанки должны быть сухи, с резко обозначенными сухожилиями, а не мясисты. Современная псовая скеле-
Рис. 14. Современная английская борзая («Охотничий календарь»)

том и мускулатурой приближается более к восточным борзым, чем к старинной псовой, тем более густопсовой; бедряные мышцы у нее, однако, не так выдаются и узловаты, как у английских. Прежний характерный постанов задних ног под себя и выгнутость спины — верх — встречаются теперь сравнительно редко. По Озерову, задние ноги должны быть «несколько оттянуты назад (отнюдь не очень), в форме полувзведенного курка; тетива (ахиллесово сухожилие, соединяющее коленку, вернее пятку, задних ног с черными мясами) толстая, крепкая, как натянутая проволока; соединение ее с коленом сильно увеличивает ширину последнего».
Лапы у всех русских борзых всегда были более или менее продолговатые — русачьи. «Которая имеет волчьи ступни, а не лапы — отдавать наварщику», — говорил фон Лессин. Однако нельзя не заметить, что курляндские псовые, по-видимому, имели кругловатые лапы, особенно задние, и что у густопсовой лапы были круглее, чем у псовой. Круглую лапу, если она в комке со слитыми пальцами, нельзя считать недостатком, так как она требуется от английских и встречается нередко у чистопсовых английского происхождения. Совершенно круглая — кошачья — лапа, правда, некрасива, но это дело вкуса: англичанам, напротив, не нравятся узкие русачьи лапы даже у пойнтеров и других пород. У нас всеща русачья лапа считалась признаком резвости: «Чем больше персты у собаки сходствуют с русачьими, признак ее резвости» (Левшин, «Домоводство»).
Это предпочтение действительно имеет практическое основание: между тем как пойнтеру, вообще легавой, необходима широкая лапа, которая бы не вязла в болоте и мягкой лесной почве, русским и восточным борзым приходится скакать главным образом по твердой, иногда замерзшей почве залежей, целин, сухих лугов, где узкая и длинная лапа целесообразнее, ибо езда в топь случается редко. У лошадей тоже, как известно, копыта бывают тем Јже, чем почва крепче и каменистее; у северного оленя и лося копыта сравнительно гораздо больше по объему, чем копыта настоящего оленя и козы, тем более серны и горного козла. Русачья, т. е. продолговатая лапа, как известно, обусловливается неравномерностью пальцев (фаланг); у круглой же, кошачьей лапы все пальцы почти одинаковой длины, почему она не может так глубоко уходить в мягкую почву, как узкая русачья.
По-видимому, у всех русских псовых пород задние лапы были значительно больше передних, как у русака, но об этом отличии их от других борзых никем не упоминается; вообще у всех псовых лапы далеко не так малы, узки и плотны, как у крымских, тем более горских борзых, поэтому всегда побеждавших их в жестель и гололедицу. Главное, чтобы лапа соединялась с пазанком не под прямым углом (т. е. не поползла), а под тупым и чтобы пальцы не были распущены, составляли как бы одно целое. Они должны быть собраны в комок, как бы склеены, достаточно, но не чрезмерно, длинны, с небольшими зацепами (последний сустав с ногтем) и короткими крепкими ногтями блестяще-черного цвета, упирающимися в землю. Стоять собака должна на коготках, так чтобы едва касалась земли подошвами; при постанове задних ног под себя борзая должна, конечно, стоять на пятках (мякишах); пятка не широкая, а продолговатой формы.
Пальцы, обращенные наружу, упираются торцом в землю (Бло-хин); по Губину, пятые пальцы, находящиеся на внутренней стороне передних пазанков и неправильно называемые им прибылыми*, служат будто борзой для упора во время скачки, при остановке и поворотах на угонках. У всех псовых ногти короче и поставлены выше, чем у английских, поэтому первые скакали и ловили по страшной колоти, до крови обдирая себе ноги, ногти же оставались целыми, так как они их не срывали. Еще крепче ногти у горских борзых.
У прежних псовых лапы были с густою подпушью, предохранявшей пальцы от холода и ссадин; у современных она замечается редко. Озеров говорит, что подпушка на лапах типична, но требовать ее от полевой собаки не всегда возможно, и что от каждого пальца (снаружи) идет косица волос. По замечанию Кашкарова, у помесей и вообще у современных борзых к волосам лап пристает снег; собаки, обгрызая поэтому волос, смачивают его слюной, отчего образуются ледяные шарики между пальцами, причиняющие боль собаке и препятствующие быстрой скачке; волосы постепенно выщипываются, подошва оголяется и делается чувствительною к холоду. Вероятно, у псовых шерсть содержит более жировых веществ, так что снег не пристает к ней.
Правило (хвост). Все старинные породы псовых, кроме, быть может, чистопсовых, несомненно имели длинное правило. О длинных хвостах говорят и фон Лессин и Левшин. Самое название «правило» указывает значение хвоста у борзой, как руля при скачке, и вполне понятно, что у собак, не отличавшихся сильно развитыми черными мясами, более длинный хвост способствовал изворотливости при угонках; борзые же с огромными и выпуклыми мускулами задних ног не нуждаются в длинном руле и могут даже обойтись вовсе без него, что мы и видим на куцых горках, отличающихся необычайно широким задом. Некоторое значение для длины хвоста имели и рост, и общая неуклюжесть, неповоротливость борзой. Самое длинное правило имели курляндские псовые, затем густопсовые, псовые; самое короткое — чистопсовые. Неудивительно поэтому, что в старину длина правила служила даже приметой резвости (вернее, прыткости) и поимистости — изворотливости; для измерения хвоста прежде употреблялся особый прием, а именно: правило пропускалось между задних ног, затем подтягивалось к маслакам; у густопсовых оно должно было непременно доставать ближайшего, а у курляндской — дальнего маслака. Тем не менее хвост никогда не должен был доставать до земли. Собака с очень длинным правилом всегда имеет рыхлый вид, особенно когда хвост слаб, т. е. тонок.
* Прибылыми пальцами, волчьими, шпорами называются обыкновенно пятые (иногда и шестые) добавочные пальцы на задних ногах, встречающиеся сравнительно редко.
У современных псовых хвост должен быть в основании не тоньше большого пальца, ко не мясист и деревянист, а упруг и силен, постепенно утончаясь к концу; лучше, если правило не достает земли вершка на два. Держится оно в спокойном состоянии серпообразно или, еще лучше, с саблевидным выгибом; на ходу оно поднимается на одной линии с туловищем или немного выше. Крутой постанов хвоста на ходу и в особенности кривохвостость, т. е. сваленный на сторону конец правила, считается пороком, так же как свернутый в кольцо или полукольцо конец правила, как у восточных или английских борзых; по замечанию С. Кареева, у псовых, мешанных с крымками или горскими, конец хвоста, когда возьмешь его в руки, сгибается так, что может служить признаком подмеси.
У курляндских псовых, судя по их описанию, конец хвоста всегда приподнимался кверху полукольцом, образуя как бы букву г. В старину такой изгиб не считался, однако, недостатком и у других псовых. Левшин говорит о правиле, «кверху в кольцо загнутом», а в другом месте («Домоводство»): «Правило длинное, прямо висящее или хотя кольцом на конце вверх загнувшееся, но не свислое в сторону».
У псовых хвост одет густою и длинною псовиною, только у курт ляндских он был покрыт кругом короткою волнообразною шерстью, как у двухмесячного псового щенка, то есть был почти голым. У густопсовой подвес (или привесь) на правиле была длиннее, гуще, чем у псовой, притом не прямая, а волнообразная, даже в завитках (у основания); хвост у них никогда не имел такой густой псовины и не был так тяжел, как у длинношерстных лаек и шотландских колли, хотя хвост последних по форме и подвесу имеет немалое сходство с правилом густопсовой, как и сам колли имеет некоторую аналогию с последней. Эта подвесь достигала у густопсовых 4-х (даже более) вершков длины, не укорачиваясь к концу хвоста, как у сеттеров. С верхней стороны правила псовина должна быть короче, чем на туловище, и постепенно укорачиваться к концу.
У современных псовых с сильно развитыми черными мясами вследствие подмеси куцых горских правило значительно укоротилось, и встречаются борзые не только с правилом вокороте, но и полухвостые, т. е. конец хвоста не достегает даже коленок. Правило вокорот замечается всего чаще между псовыми, происходящими от мачевариановских и ермоловских собак; короткий хвост имели также знаменитые трегубовские псовые, которые, несомненно, судя по своему богатырскому сложению, также имели примесь горских. Подвесь теперь редко превышает двухвершховую длину, и на верхней стороне хвоста псовина очень короткая.
Собаки в рыску, при движении, держат правило покруче, т. е. не параллельно земле, а выше, и притом согнутым.
Псовина. Длинная псовина — характерный признак всех псовых, которые, вероятно, от этого и получили свое название. Всего длиннее она у густопсовых, причем несомненно, что на длину шерсти обращалось прежде особенное внимание при подборе производителей: зимой псовина имела 3 — 4 вершка длины на туловище, а на гачах, правиле, сзади передних ног в исключительных случаях достигала почти полуаршина. На шее псовина также сильно удлинялась, образуя, преимущественно у кобелей, так называемые отчесы, вроде волчьих, которые нередко принимали вид так называемой муфты, или лис. Волнистость, даже курчавость псовины густопсовые, очевидно, унаследовали от курляндских псовых; хотя прежде и встречались густопсовые в завитках, но завитки все-таки не служили признаком этой породы и большинство охотников предпочитали, как видно, слегка волнистую псовину, допуская завитки только на конце зада и боках (Кареев). Всего замечательнее была густота шерсти, ее мягкость, тонина и вместе с тем шелковистость, зависевшие, впрочем, главным образом от тщательности содержания.
Обилие псовины у старинных густопсовых причиняло им, однако, более вреда, нежели пользы, так как задерживало линьку, требовало ухода, заставляло собак страдать от жары летом, сильно худеть, ложиться в воду, а в жаркую осень быстро зарьявать и сбавлять скачки. Старинные псовые имели более короткую и прямую псовину, но более приближались к густопсовым, чем современные. «Псовина и лисы наподобие вихров… Псовина длинная, висящая, какая бы шерсть ни была, наподобие кудели» (фон Лессин). По-видимому, у обыкновенной псовой шерсть на теле не превышала 3 вершков длины, а уборная псовина — четверти аршина; отчесы и баки были у них короче и у сук почти не заметны; на всем теле, кроме груди и брюха, замечался густой подшерсток, псовина же была реже и грубее, т. е. толще, чем у густопсовой, и почти всегда прямая, редко чуть волнистая. У чистопсовых же псовина редко достигала более вершка длины на теле и двух на хвосте, гачах и шее; она была мелхою, блестящею, с густым пушистым подшерстком осенью и зимою; отчесы небольшие, едва заметные.
Псовина на голове у всех псовых, начиная от ушей и шеи и на ногах спереди, очень короткая, в виде мышиной шерсти, и немного только длиннее от глаз к ушам, но непременно блестящая, атласистая и гладкая. Летом все псовые имели укороченную и более редкую псовину и лишались пушистого подшерстка. Линька начиналась у густопсовых с весны (апреля) и продолжалась очень долго — до осени, причем для ускорения линьки собак обыкновенно подмазывали; то же и у обыкновенных псовых, только они вылинивали незаметно, постепенно теряя псовину по волоску; наконец, чистопсовые вылинивали в течение двух месяцев — мая и июня (Губин). Следует заметить, что на юге густопсовые и псовые после первой же линьки получают более короткую и редкую псовину и по внешности более или менее приближаются к чистопсовым.
Что касается курляндских псовых, то псовина у них, как известно, была довольно длинная, кудрявая, в завитках на туловище и очень короткая и атласистая на морде, передних ногах кругом, начиная от локотков, и задних ногах от коленок; на шее она постепенно удлинялась к голове, нередко достигая 3-вершковой длины, и имела более крупные завитки; лоб, начиная от глаз до ушей хотя был покрыт такою же короткою псовиною, как на щипце, но псовина эта лежала волнообразно, переходя между ушей как бы в завитки, сливавшиеся затем с завитками затылка. Такая волнистая шерсть на задней части черепа замечалась еще у некоторых псовых первых московских очередных выставок, например, у Награждая Н. А. Болдарева и др.
Что касается современной псовой, то по длине и качеству псовины она мало отличается от старинной псовой, но нередко имеет более или менее волнистую шерсть. Озеров допускает завитки на шее, слегка волнистую псовину на спине до крестца, более волнистую на крестце и гачах; на ребрах псовина короче, но с оконечности ребер ниспадает длинными шелковистыми прядями. Большая часть современных псовых завитков не имеет.
Окрас. Типичными окрасами для всех псовых почти единогласно считаются серый и половый со всеми их оттенками до чисто-белого и рыжего, включая так называемый голубой (мышиный, или пепельный) и бурматный*, а также пегий этих мастей. Преобладание этих окрасов служит одним из веских доказательств происхождения русских борзых от северных волкообразных собак. Красный и чубарый (тигровый, т. е. с темными пятнами и полосами) окрасы характеристичны для английских и отчасти хортых борзых; черный, черно-пегий, также муругий (красная или красно-Цоловая масть с черными кончиками волос и пробивающейся кое-где черною остью)** окрасы свойственны восточным борзым, причем мазурина (рыжий окрас различных оттенков с черным щипцом и черными конечностями) встречается всего чаще у горских; подпалины почти всегда указывают примесь крымок; кровные псо-
* Бурматным окрасом называется серый или полбвый различных оттенков, как бы подернутый пылью, т. е. грязно-серый или грязно-полбвый. Губин почему-то не признает этого названия и полагает, что слово «бурматный» есть испорченное «муруго-пегий»(!).
** По Мачеварианову, концы ушей черные и черный ремень на спине.
вые не должны иметь ни мазурины, ни подпалин; у них допускаются только подласины, т. е. более светлый окрас на морде и конечностях, что зависит большею частью от просвечивания подшерстка, который всегда бывает светлее ости. Одним из признаков чистокровности псовых многими считается белая кожа и светлый подшерсток. Курляндские псовые тоже были большею частью серого и полбвого окрасов до рыжего включительно, но всегда с черным оттенком.
По справедливому замечанию Ермолова, главное отличие окраса псовых от окраса английских замечается в том, что он не везде так равномерен и так густ по колеру, например, половая и серая псовая к оконечностям всегда бывает окрашена много светлее. Что касается чисто-белого окраса, без отметин, то эта масть всегда очень уважалась у псовых, справедливо считаясь признаком кровности; но именно вследствие чрезмерной кровности белая масть должна быть рассматриваема как первая степень альбинизма, а потому белые борзые, особенно густопсовые, в большинстве отличались рыхлостью и слабостью сложения.
Рост и общий вид. Из всех псовых самыми рослыми были курляндские псовые, которые, по преданию, редко бывали менее 18 вершков в загривке и достигали 20 вершков. Этот громадный рост, вероятно, унаследован ими от ирландских волкодавов, скрещиваемых в прошлом столетии с курляндскими брудастыми и обыкновенными русскими псовыми. Между густопсовыми также очень часто встречались 18-вершковые кобели, изредка 19-вершковые. К числу таких гигантов принадлежали, например, Сибирь Атрыгань-ева и Победим I Кареева (см. выше). Самая рослая сука из современных псовых, вероятно, Заирка, г. Калмуцкого, которая, по словам С. Кареева, имела 18 вершков в загривке. Очень рослые собаки, однако, редко бывают ладны и большею частью бывают бедны задом и лещеваты (исключение составлял Сибирь). Нормальным ростом для современных псовых надо считать, согласно Ермолову, 15 вершков для суки и 17 для кобеля, причем допускаются колебания на вершок в ту и другую сторону, т. е. на вершох больше и на вершок меньше; но рост суки выше 16 (17?) вершков и кобеля выше 18 скорее может считаться недостатком. Почти все известные по резвости собаки были среднего, даже небольшого роста.
За исключением курляндских псовых, отличавшихся довольно непривлекательною и неуклюжею внешностью, все псовые имеют весьма элегантный вид и по красоте и изяществу форм едва ли не занимают первое место в собачьем мире, так как головою превосходят английскую борзую. Общий вид псовой борзой, часто смешиваемый с статями, выражается в благородстве и изяществе очертаний головы, чистоте отделки конечностей, в общей пропорциональности сложки, мягкости блестящей псовины и даже в движениях, полных энергии и огня (Озеров).
К сожалению, у нас до сих пор нет измерений отдельных частей борзых, как это делается в Англии и других странах. Эти размеры, главным образом пропорции между ними, могли бы дать очень верное понятие о складе псовых и разрешить многие споры и недоумения охотников. Не подлежит никакому сомнению, что густопсовые, а затем псовые изо всех борзых имеют самую короткую колодку, конечно кобели, так как суки в этом отношении мало отличаются от сук других пород. По Вышеславцеву, правильно сложенный густопсовый кобель должен был помещаться в квадрате (подобно пойнтеру), то есть «холка (!), концы пальцев передних ног и пятки задних должны составлять квадрат»; верх спины в этом квадрате не умещается. Между современными псовыми вряд ли уже найдутся такие короткие кобели. К сожалению, ими утрачена также и т. наз. русачья повалка, типичная для старинных собак: почти все теперь лежат на боку, подобно другим неборзым собакам. Утрачены прежняя энергия, бодрость и чуткость, выражавшаяся в частом приподнимании ушей и вскакивании. Большинство имеют вялый, апатичный вид, в чем можно убедиться на выставках.
Характер псовых различен, смотря по породе, а также воспитанию. Курляндские псовые были самыми злобными, свирепыми и угрюмыми; густопсовые также большею частию имели суровый характер и были чрезвычайно злы, особенно к чужим собакам, неборзым, которых не могли равнодушно видеть. Воспитанные в комнатах борзые, как всегда в этом случае, становятся более веселыми, добродушными, послушными, понятливыми и ласковыми к людям, даже чужим, и их можно приучить не бросаться на собак. Однако как собака очень густо одетая, даже современная сравнительно короткошерстная псовая, не говоря о прежних псовых и густопсовых, плохо выносит комнатную жизнь и требует большого ухода за псовиной, так как легко подвергается здесь забойке. Очень кровные и избалованные борзые делаются весьма разборчивыми в пище, привередливыми, обидчивыми и капризными, а на траве начинают ловить по охотке, когда им вздумается, т. е. утрачивают главные качества борзой — жадность и энергию.
Хотя борзая по природе своей и назначению должна быть зла, но далеко не все борзые бывают злобны, так как по охотничьей терминологии злоба и злобность — два совершенно различные понятия. Под злобностью разумеется исключительно врожденная, как бы инстинктивная, ненависть к волку; такие борзые могут быть очень ласковы к людям и, хотя редко, очень миролюбивыми, вовсе не злыми с другими собаками. Телятников («Пр. и охота», 1888, IX) рассказывает о Сокрушае Сошальского и своей Ведьме, которая даже была робкого характера и никогда не грызлась, что они забирались на дроги, где лежал затравленный волк, и начинали его грызть; устанут трепать — закроют глаза и стоят неподвижно, впившись в волка, потом снова начинают трепать; то же самое Ведьма проделывала и с волчьими шкурами. Некоторые особенно злобные борзые впиваются даже в мерзлого волка. Вообще злобностью называется та слепая злоба, которая заставляет таксу впиваться в барсучью шкуру, а хорошо притравленную лайку — в медвежью.
Особенною злобностью отличались прежде курляндские псовые, затем густопсовые, даже носившие поэтому название волкодавов. Большинство старинных псовых тоже брали волков, но преимущественно прибылых, и между современными борзыми мало найдется собак, которые бы не брали молодых волков; нередки такие, из-под которых принимают и сострунивают переярков; матерого же волка можно затравить только сворой или двумя из особенно сильных и злобных псовых, так как он несравненно сильнее всякой борзой. Случаи травли голодного матерого волка одной собакой давно сделались преданием. К таким знаменитым волкодавам принадлежали Зверь князя Барятинского, Космач Каракозова и немногие другие.
Вообще почти все затравливаемые теперь матерые волки — волчицы, трехгодовалые самцы, очень старые, слабые и больные особи или очень нажравшиеся падали. Это понятно, так как матерый волк очень резв и очень силен и его надо сначала догнать, затем осилить; к сожалению, злобность крайне редко совмещается с резвостью: очень резвые борзые плохо берут волка и, видя в нем очень опасного противника, часто только щиплют его за гачи. Многие собаки, хорошо берущие прибылых, при травле матерого, даже переярка, сбавляют скачки, скачут не всеми ногами. Матерый, бывавший в переделках волк очень хорошо понимает это и дает себя щипать за гачи заячницам. «Но вот спущены три кобеля, хорошо берущие волка; волк покосился, мгновенно сообразил по той решительности, с которой они неслись к нему, что из этого может выйти, и в тот же миг вся фигура его преобразилась: голова опустилась ниже, шея вытянулась, толстым пушистым наростом поднялся загривок на его холке, могучие ноги замахали чаще» (Жо-мини).
Дело в том, что матерый волк хотя и очень резов, но не пруток, и только пруткая борзая может догнать его при обыкновенных условиях. А. И. Новиков полагает, что даже лихая борзая, т. е. исключительной резвости, может добраться до матерого волка не более как с расстояния 120 сажен. Но кроме резвости материк требует от собак особенных злобности и силы. Только очень злобные борзые берут мертво, а не вотхват, и по месту, т. е. в ухо, шиворот или в горло, так как лишь при таком приеме они могут быть в безопасности от волчьих хваток. При всем том матерый волк настолько силен, что он свободно тащит двух, даже трех влепившихся в него борзых; часто он, остановившись, подбивает под шею собак, держащих его за горло, задние ноги, взмахивает ими, и собаки отлетают в разные стороны; между тем злобная борзая так крепко стискивает челюсти, что ее с трудом может оторвать за ошейник даже очень сильный человек.
Настоящими волкодавами могут быть названы только те борзые, которые берут волка по месту и без отрыва, т. е. у которых, как у бульдогов, сводит судорогой мускулы челюстей; следовательно, мускулы эти должны быть сильно развиты. Только из-под таких надежных злобачей можно принимать переярка, а при удаче и матерого. Самым лучшим приемом считается прием в глотку и горло, который иногда (неправильно) называют глоточным хватом, так как волк начинает задыхаться; бывали примеры, что он оказывался даже задушенным. Однако, по замечанию знатоков (А. И. Новикова), борзые, которые захватили волка за шиворот или в ухо, держат крепче, как бы замирая, без отрыва; собака же, захватившая в горло, хотя не отрывается, но от времени до времени она старается как бы глубже впиться в горло, вероятно, потому, что раздражается хриповатыми звуками в горле волка и, стало быть, сознает, что она не задушила его. Многие злобачи теряют при этом сознание, закрывают глаза, как бы лишаются чувств и продолжают держать уже принятого (приколотого) волка, так что приходится прибегать к чрезвычайным мерам — приподнимать задние ноги, дуть в ухо, обливать водой (?). Некоторые собаки при этом настолько озлобляются, что бросаются на охотника.
Хотя все сильные и рослые борзые, какой бы ни было породы, по природе своей должны быть злобны к волку, однако настоящих волкодавов с правильным приемом очень мало. Натравливанием и частою практикой можно добиться удачной травли прибылых и иногда переярков, но беззаветная злобность, равно как и сноровка в приеме, — врожденные качества, передающиеся по наследству. Перегодовавшие кобели назимовской породы прямо брались на охоту вместе со старыми собаками и брали мертво, по месту, а если получали хватку, то брали еще злобнее, между тем как обыкновенно молодые борзые после хваток начинают бояться волка. Точно так же, как злобность борзых может быть развита практикой в течение нескольких поколений, злобность легко может быть ими утрачена, если потомством злобных собак будут травить только зайцев. Полевая практика, то есть травля вольных, хотя бы молодых, волков несравненно действительнее травли садочных, которых собаки берут неохотно, во-первых, потому, что они большею частию сильно воняют, а во-вторых, потому, что травленный на садках волк не бежит, а чаще останавливается в оборонительном положении, так что собаке трудно подступиться к нему без хватки. Преимущество же борзой именно заключается в том, что она прытче волка и может его сначала опрокинуть, а затем поместиться в горло или шиворот лежащему. Некоторые собаки опрокидывают волка грудью, другие, приспев к волку, дают ему такой «ровок» в гачу, что он летит через голову, и тогда, пользуясь моментом, приемистая борзая берет его по месту и держит без отрыва.
Главное качество борзой, однако, не злобность, а резвость, быстрота скачки, мерилом которой всегда служит заяц, преимущественно русак. Старинные псовые, густопсовые и курляндские псовые, предназначавшиеся большею частию для травли на коротких перемычках, отличались от хортых и восточных борзых главным образом пруткостью, т. е. резвостью накоротке, сдавая скачки при ловле на большом расстоянии, т. е. скоро уставая, выбиваясь из сил. Хортые и все вислоухие борзые, напротив, пригоднее для травли в открытых местностях, так как, обладая большею силою, могут скакать гораздо более продолжительное время. Чистопсовые, а также псовые с подмесью восточной или английской крови и современные псовые обладают, так сказать, мешаными качествами, т. е. достаточными пруткостью и силою, но необычайная пруткость в соединении с огромною силою, неутомимостью, так наз. лихость, всегда, тем более теперь, встречалась между русскими борзыми в виде редкого исключения. По мнению А. В. Жихарева, хотя общий уровень резвости горских борзых* был выше уровня резвости его псовых, но между последними чаще выраживались собаки необычайной резвости. Замечателен тот факт11, что едва ли не большинство борзых, знаменитых резвостью (Сердечный Кологривова, Отрадка Хомякова и др.), представляли первую помесь псовых с горскими, и в них счастливо соединялись прут-кость и бросок первых с силою вторых. Интересно также, что все лихие борзые — это такое же исключительное явление, как гении между людьми.
Пруткость псовых, т. е. резвость накоротке, в значительной мере зависит от манеры поскачки, совершенно отличной у них от поскачки хортых и восточных борзых. Густопсовые и обыкновенные псовые, если в них не было примеси, скачут без исключения
* Следует заметить, что в знаменитых жихаревских горках была подмесь крови псовых.
варкою (учащенною) поскачкою, как бы изгибаясь змееобразно, вытянув шею и как бы кладя голову на ноги. «С приподнятою же головою, подобно хортым, скакать им было невозможно, во-первых, потому, что они все более или менее низкопередые, а во-вторых, оттого, что они слишком далеко заносят задние ноги вперед, так что туловище ставят почти перпендикулярно земле, и если бы не вытягивали при этом шею, то опрокидывались при каждом прыжке. Это резко бросается в глаза, когда густопсовая стоит без своры и внезапно увидит зверя: первый ее взмах невольно заставит содрогнуться от боязни, что она опрокинется и расшибется» (Сту-пишин). Когда смотришь вугон, собака катится как шар, и, глядя со стороны, трудно рассмотреть ее проворные машки. Напротив, вытяжная редкомахая поскачка свойственна вообще собакам сильным, степным; мешаные русские псовые с небольшою примесью степной борзой большею частию имеют поскачку скорее редкома-хую, но спешную, и только на броске, если он есть, зачастят (Ермолов).
Кроме пруткости, все старинные русские борзые (псовые, густопсовые, курляндские псовые и чистопсовые) отличались от всех хортых и восточных борзых своим броском, нераздельно связанным с пруткостью. «Бросок — это тот быстрый, молниеносный страшный порыв, который резвая собака делает к поимке зверя» (Мачеварианов). «Бросок, или кидок (кидка), есть способность кровной (?) собаки, приспев на известное расстояние (от 3 до 15 саж.) к зайцу, метнуться к нему пулей» (Ермолов). «Кидок, — по определению Кареева, — когда собака доспеет к русаку на расстояние 8 — 9 саж., как молния наддает и моментально бросается на него. Эти-то два усиленные скачка, в которых часто бывает 7, а у крупных собак даже до 9 аршин, что можно видеть по пороше, и называются кидкою».
The throw, although it is the affiliation of the dogs, but, according to Macevarianov and Ermolov, in dogs with a mixture of mountain or Crimean amplified, lengthens; so, for example, a dog exclusively dog blood will throw to the hare in 3 – 4 seedlings from him, but such a mixed dog, having boarded the seedlings 8 – 10 to the hare, rushes past the most fervent dog and carries away the beast from under the nose. In dogs dashing, exceptional frisky, the throw reaches 15 soot. and even more (by Machevarianov, up to 20-th). It often happens that the front dog breaks its mouth to grab the mermaid, and the dog, which was in the back, suddenly finds itself in front with a hare in his teeth or repackows with him. The speed of the throw is compared with the volts of stone swifts, the rapid fall of the falcon on the flying prey, and the strength of it can be judged from the fact that the dog on the throw, hitting the slant on the front leg of the horse, knocked her grandmother, so that the horse fell along with the rider (Machevarianov). It is not uncommon for a greyhound to hit a stump on a roll and stay in place, shattered. In general, catching with a throw is almost always through the head, i.e. the dog was outsoughn or fell with a russak; she killed him with her breasts, smashing his ribs or hind legs. Kurland dogs are almost always “beaten like a field.” It is easy to conclude that the manner of pumping dogs and their rod is not conducive to the squeveli, especially with the dodge of the hare.
Throw, i.e. the ability to throw a bullet to the beast, occurs in many animals waiting for prey, especially in the genus of cats. To some extent, it is noticed in many northern barks, which often, suddenly seeing near the beast, catch up with him with a short desperate effort. Probably, this ability of wolf-shaped dogs was inherited by canines as forest greyhounds, only it got from them huge development due to the special conditions of baiting in wooded areas. The throw, first, develops an island ride with a flock of hounds, and with the abundance of the beast (hares), and secondly, the terrain – clearings and jumpers; thirdly, I’m only bullying from a pack. Under these conditions, the throw sometimes develops even in mountain greyhounds. On the contrary, the dog in the steppe when hunting in the race and without a pack most of the throw loses the throw: the dog moderates its fervor, it is not excited by the rut of the pack, bullying neighbors and stretched pack. It is not surprising, therefore, that at present, due to the change in the nature of dog hunting, the throw is found only in a few canines,the fro clearly proved the capital’s gardens.
Без всякого сомнения, резвость, пылкость и сила скачки в значительной мере обусловливаются известным сложением, правильностью ладов и главным образом развитием зада и задних ног. Знаток при взгляде на собаку может почти всегда определить, тупа ли она, резва ли вообще, прутка или способна к продолжительной скачке. Неудивительно поэтому, что правильности ладов всегда и везде придается такое важное значение. Но все-таки одних рабочих ладов — крепких ног и хороших мускулов — недостаточно: в собаке должна быть кровь, порода, значение которых давно сознано коннозаводчиками. Точно так же, как известно немало знаменитых скакунов с порочным экстерьером — вывороченными наружу ногами, растянутою и провислою спиною, так точно и “между кровными борзыми встречаются вовсе неладные собаки значительной резвости. Отсюда известный парадокс: не по ладам собака скачет, а по породе. Никто не станет спороть о том, что есть еще нечто, кроме силы мускулов, — это энергия нервной системы, дозволяющая делать иногда сверхъестественные усилия, и что эта нервная энергия в особенности развита у кровных животных.
Между охотниками известно немало примет резвости борзых, как взрослых, так и в щенячьем возрасте, примет, впрочем, не всегда имеющих какое-либо основание. По фон Лессину, короткий и тупой соколок — «признак не ловцов». До сих пор многие считают длину правила приметой резвости. Левшин утверждал, что надо выбирать щенков, у которых «черепная кость остра, с малым раздвоением», а в другом месте, что «сарновая кость (т. е. длинное последнее ребро) считается признаком резвой и сильной в полях собаки». То же говорил и Губин, только сарновой костью он называет одно лишнее или два ребра (т. е. с обеих сторон) в виде небольшой косточки, которая очень редко бывает видна, а только может быть прощупана и встречается лишь у немногих собак выдающейся резвости. Вторая примета, по Губину, заключается в длине таза и, следовательно, расстоянии от последнего спинного позвонка до первого хвостового; расстояние это может равняться от 2 до 6 пальцев; наконец, третья примета у Губина — особенно длинные и острые нижние клыки.
